Тамара Амелина, Анна Гальперина
«Мириам, правда, что ты христианка?»
Мария Шмаина о своей семье и жизни на Святой Земле
Мария Валентиновна Шмаина о своей семье, эмиграции, важных жизненных встречах и выборах, жизни на Святой Земле – в интервью «Правмиру».
Мария Валентиновна Шмаина – жена и верный друг протоиерея Ильи Шмаина. Их большой совместный путь служения Богу и Церкви начался в послевоенное советское время, продолжился в эмиграции в Израиле и Франции. Почти четверть века они прожили на чужбине, встретили многих удивительных людей, дружили с митрополитом Сурожским Антонием (Блумом), Никитой Струве, Борисом Чичибабиным и другими.
Иосиф и его братья

Мои деды и бабушки умерли задолго до моего рождения. Папин отец Константин Григорьевич Житомирский родился в Таганроге в семье очень бедного еврейского ремесленника, у которого было 14 детей, и мой дед был самым младшим. Он окончил университет и стал весьма известным ученым-филологом и педагогом. У него была собственная теория преподавания языков. Сам он знал их несчетное количество и считал, что грамматика не имеет никакого отношения к изучению языка. Дети должны начинать его учить в три, а даже лучше в два года, и к 7-8 годам знать, как минимум, английский, французский и немецкий. Он это выполнил со всеми своими пятью детьми.
Настоящим потомком деда оказался мой папа, который превосходно знал греческий, древнегреческий и латынь, хотя они никогда ему в жизни не понадобились. Когда у него был тяжелый инсульт, и полагалось лежать неподвижно, он все время упражнял мозг: переводил стихи с древнегреческого, с испанского на русский, с русского на французский, с немецкого… Папа знал 14 или 15 языков.
Настоящим потомком деда оказался мой папа, который превосходно знал греческий, древнегреческий и латынь, хотя они никогда ему в жизни не понадобились. Когда у него был тяжелый инсульт, и полагалось лежать неподвижно, он все время упражнял мозг: переводил стихи с древнегреческого, с испанского на русский, с русского на французский, с немецкого… Папа знал 14 или 15 языков.
Бабушка моя была в числе знаменитых таганрогских гимназисток. В мужской гимназии был табель о рангах: гимназистки делились по красоте на адмиральский состав, капитанский и так далее. Она числилась в контр-адмиралах…
Выйдя замуж, праведно вела домашнее хозяйство, воспитывала детей. Но потом сказала, что больше не может сидеть дома и уехала в Швейцарию – в России тогда еще женщин в высшие учебные заведения не пущали. В Швейцарии окончила двухгодичные курсы акушеров и оспопрививательниц и вернулась в Таганрог.
Выйдя замуж, праведно вела домашнее хозяйство, воспитывала детей. Но потом сказала, что больше не может сидеть дома и уехала в Швейцарию – в России тогда еще женщин в высшие учебные заведения не пущали. В Швейцарии окончила двухгодичные курсы акушеров и оспопрививательниц и вернулась в Таганрог.
Мой папа ходил в гимназию, где раньше учился Антон Павлович Чехов, папин любимый писатель. Дети подбегали к надзирателю и спрашивали: «Павел Иванович, расскажите про Чехова». И важный старик с седыми усами отвечал: «Ученик был хороший, но поведения среднего. Приходилось его за беготню на переменах ставить в угол».
В 1914 году началась война, и мой папа, конечно, побежал добровольцем. Его взяли вольноопределяющимся. Он попал в полк сибирских охотников, которые его зауважали, потому что он не пил водку, не ругался черными словами и был похож на раскольника. Когда началась Гражданская, он сказал, что воевать со своими не будет, сложил оружие и ушел в дезертиры. Так в ту пору поступали многие идейные интеллигенты, хотя об этом мало пишут.
Папа работал молотобойцем, мыловаром, потом учился в Харьковском Политехническом, доучивался в Москве, в «Бауманке».
Мамина бабушка была из очень богатой семьи помещиков на Юге Украины, владеющих шестью тысячами десятин земли и несколькими тысячами крепостных. Они жили в имении Сусловка. И вот, представьте, какие бывают в жизни совпадения: мой внук женился на прекрасной девушке тоже родом с Украины, из Сусловки.
Мама рано начала мне читать кусочки из «Войны и мира», и для меня было абсолютно одинаково, что в «Войне и мире», что у мамы – один и тот же помещичий быт.
Она мне рассказывала о поездках к дядюшке, псовых охотах, про красавицу домоправительницу, которая плясала и пела. В ее детстве еще жил дед, который был крепостным. Мама мне говорила: «Он был такой древний, что у него кончики усов и бороды были совершенно зеленые».
Папа работал молотобойцем, мыловаром, потом учился в Харьковском Политехническом, доучивался в Москве, в «Бауманке».
Мамина бабушка была из очень богатой семьи помещиков на Юге Украины, владеющих шестью тысячами десятин земли и несколькими тысячами крепостных. Они жили в имении Сусловка. И вот, представьте, какие бывают в жизни совпадения: мой внук женился на прекрасной девушке тоже родом с Украины, из Сусловки.
Мама рано начала мне читать кусочки из «Войны и мира», и для меня было абсолютно одинаково, что в «Войне и мире», что у мамы – один и тот же помещичий быт.
Она мне рассказывала о поездках к дядюшке, псовых охотах, про красавицу домоправительницу, которая плясала и пела. В ее детстве еще жил дед, который был крепостным. Мама мне говорила: «Он был такой древний, что у него кончики усов и бороды были совершенно зеленые».

Прабабушка
Мамина мама, моя бабушка Татьяна, была младшая, довольно нелюбимая у крутого нрава бабушки дочь. Она ненавидела свое богатство и всячески старалась помогать бедным: возила корзины всякой снеди в тюрьму, раздавала нищим. А дедушка был младший 15-й сын в огромной семье деревенского, совершенно нищего цадика. Когда моя мама читала роман Томаса Манна «Иосиф и его братья», она всегда принималась плакать, потому что ее отец был именно как Иосиф. Он был необыкновенно красив, умен и талантлив. Попечители взяли его на казенный счет в гимназию, он окончил ее с золотой медалью. На выпускной гимназический бал были приглашены гимназистки, как полагалось, и там он познакомился с моей бабушкой Таней.
У них возникла безумная любовь, бабушка хотела, чтобы они немедленно поженились. Но он сказал, что не может, будучи нищим, жениться на богатейшей невесте, что он должен сначала сделать себе состояние и иметь возможность содержать ее так, как положено. Они тайно обручились, и он уехал, вернее сказать, по полной нищете ушел пешком в Германию. Там он поступил в Берлинский политехнический институт, работал грузчиком в порту и учился семь лет. Она ждала его, переписывались. Как Яков с Рахилью. Семь лет!
У них возникла безумная любовь, бабушка хотела, чтобы они немедленно поженились. Но он сказал, что не может, будучи нищим, жениться на богатейшей невесте, что он должен сначала сделать себе состояние и иметь возможность содержать ее так, как положено. Они тайно обручились, и он уехал, вернее сказать, по полной нищете ушел пешком в Германию. Там он поступил в Берлинский политехнический институт, работал грузчиком в порту и учился семь лет. Она ждала его, переписывались. Как Яков с Рахилью. Семь лет!

Дедушка и бабушка
Дед блистательно окончил институт, получил диплом инженера-электрика, тогда тоже совершенно новое дело для России и для Европы. Вернулся в Россию, приехал в Ростов-на-Дону, построил первую на Юге России гидроэлектростанцию. После этого они с бабушкой поженились, дед купил прекрасный дом, у них был свой выезд. Дом этот широко известен в истории города и по сей день, потому что как только пришла советская власть, его реквизировали для ЧК. А когда в Ростов пришли белые, его взяла белая контрразведка, а потом опять ЧК. В нем бессменно находится МГБ, НКВД, теперь ФСБ. Это один из лучших домов в городе.

– Дом в Ростове-на-Дону, который принадлежал родителям моей мамы, в котором теперь беспрестанно находится всякое КГБ, – М.Шмаина
Бабушка не разрешала деду заниматься бизнесом и богатеть, поэтому жили они относительно скромно. Но она умерла в 29 лет при родах третьего младшего сына, моей маме тогда было два года. После этого дед открыл электрическую контору и очень быстро стал богатеть. Когда началась война 1914 года, у него было уже 1,5 миллиона золотыми рублями – это колоссальные деньги по тем временам. Чуть позже дед заболел и ему сказали, что единственный шанс на выздоровление – уехать в Египет, может быть, в сухом и жарком климате он еще поживет. Дед переправил все свое состояние в Каирский банк, но вскоре разразилась война и революция, и уже никуда нельзя было ехать. Дед вскорости умер, мама осталась круглой сиротой.
– Это моя мама со своей няней. Мамина мама, моя бабушка, умерла, когда маме не было двух лет, и ее растила любимая няня, которая водила ее потихоньку в церковь, – М.Шмаина
– Это моя мама со своей няней. Мамина мама, моя бабушка, умерла, когда маме не было двух лет, и ее растила любимая няня, которая водила ее потихоньку в церковь, – М.Шмаина

Пламенная революционерка
У мамы была старшая сестра и младший брат, жили они с домоправительницей. В 12 лет на почве прочтения поэмы Блока «Двенадцать» мама стала пламенной революционеркой. Ей еще не было 14 лет, когда она вырезала в гимназии на парте перочинным ножом: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем» и ушла из дому на фронт. В 1921 году она приехала в Москву. Мамин друг Яков Владимирович Старосельский ее встретил и повел поступать в университет. Маме было 15 лет. Обуви у нее не было, она пришла босая, в сарафане и в венке из васильков. Ректором университета тогда был Андрей Януарьевич Вышинский, он посмотрел на маму пронзительным взором и спросил: «Сколько вам лет?» Мама сказала: «Восемнадцать». «Сомневаюсь», – сказал Вышинский, но записал, поскольку она была с фронта.
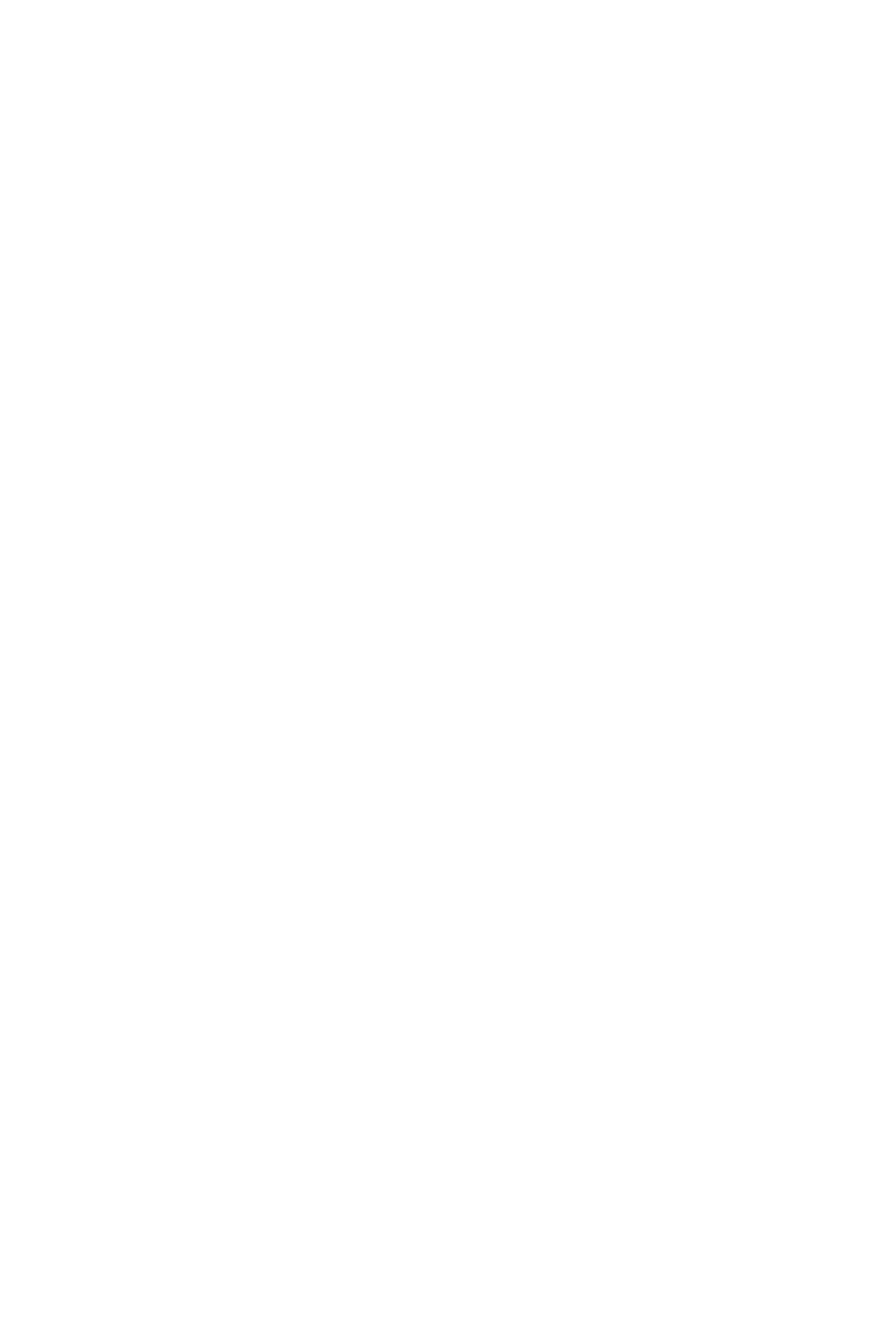
Мама поступила на факультет общественных наук – ФОН, записалась на семинар видного ученого академика Волгина изучать французский утопический социализм. Оказалось, что она по-французски не хуже его говорит – у мамы в детстве была бонна француженка, потом была немка из немецкой Швейцарии, и мама на этих языках говорила как на своем родном.
Папа тоже был человеком фантастически и широко образованным, потому что знал и технические науки, и биологию, и литературу. Но в области искусств у мамы были более глубокие знания.
Мама работала агитатором на Трехгорке и занималась Жозефом Де Местром, это крайне реакционный, замечательно умный французский философ XVIII века. Она вышла замуж за пролетария с Трехгорки, который, как потом выяснилось, работать никогда не работал, а только делал на Трехгорке революцию. Мама, которой еще не было 18 лет, родила сына, моего старшего брата. Потом была какая-то страшная семейная драма, в результате которой мама бежала от мужа в Питер. Там он за ней гонялся по крышам с пистолетом, но потом отношения были закончены.
Папа тоже был человеком фантастически и широко образованным, потому что знал и технические науки, и биологию, и литературу. Но в области искусств у мамы были более глубокие знания.
Мама работала агитатором на Трехгорке и занималась Жозефом Де Местром, это крайне реакционный, замечательно умный французский философ XVIII века. Она вышла замуж за пролетария с Трехгорки, который, как потом выяснилось, работать никогда не работал, а только делал на Трехгорке революцию. Мама, которой еще не было 18 лет, родила сына, моего старшего брата. Потом была какая-то страшная семейная драма, в результате которой мама бежала от мужа в Питер. Там он за ней гонялся по крышам с пистолетом, но потом отношения были закончены.
Нелли Новосельская, Рисунок Д.Федорова. 1922 год.
Нелли Новосельская, 20-ые годы. В то время она работала в Пушкинском доме.
Маму отроду звали Анной, но в детстве ей казалось красивее быть Нелли. Когда она поступала в университет и не хотела иметь ничего общего со своей буржуазной семьей, Яков Старосельский ей сказал: «Я – Старосельский, а ты будь Новосельская». Она записалась: Нелли Новосельская, и так всю жизнь и прожила.
Когда мама шла устраиваться на работу в Пушкинский дом, мудрая старшая сестра ей говорила: «Я тебя умоляю, не говори, что тебя зовут Нелли! Ты понимаешь, в какое место ты идешь? Скажи правду, скажи, что тебя зовут Анна». В Пушкинском доме маму встретила урожденная княжна Гагарина, на груди у нее висел лорнет на цепочке, и когда мама стала представляться: «Нелли Новосельская», она сказала: «Ах, Нелли?» – и поднесла лорнет к глазам. Но мама их очень скоро победила: все убедились в ее образованности и знании приличий, и постепенно полюбили. И мама всегда радостно вспоминала этот период своей жизни, ей было безумно интересно в Пушкинском доме, она там прочла необыкновенные архивы.
Мама приехала в 1929 году в Москву к друзьям в отпуск и там познакомилась с папой. Это была великая любовь на всю жизнь. Как было принято у людей 20-х годов, они не расписывались. У моих родителей был открытый дом, множество друзей и никто не признавал никаких официальных обрядов.
Они расписались в 1949 году, когда посадили Илюшу и компанию моих друзей, потому что боялись, что и меня посадят и будут трудности ходить в КГБ и посылать посылки.
Они расписались в 1949 году, когда посадили Илюшу и компанию моих друзей, потому что боялись, что и меня посадят и будут трудности ходить в КГБ и посылать посылки.
В 1930-х годах мы жили в большой коммунальной квартире, населенной всяким забавным людом. В частности, там жили дядя Саша и тетя Нюра Желтоуховы. Дядя Саша был дворянин, белый офицер, что приходилось скрывать, естественно, всю жизнь. Он женился, как часто бывало у обедневших дворян, на богатейшей купеческой дочери, тете Нюре. Надо сказать, они сыграли некоторую роль в моем воцерковлении, потому что были верующими православными людьми.
В их комнате стояли ширмы, которые отгораживали постель. Меня они очень любили и пускали за ширму. Там был киот в виде закрытого шкафчика, и тетя Нюра показывала мне, что там иконы, и горят лампадки. Задолго до того, как я сознательно пришла к вере, они с дядей Сашей один раз взяли меня на Рождество в храм, не велев ничего говорить родителям. Меня так потряс сам праздник! Это было у Николы в Хамовниках, там в алтаре огромный витраж – светящаяся икона Вознесения Христова, и вот, когда вдруг распахнулись Царские врата, я увидела, что на меня плывет Христос с поднятыми руками!
В их комнате стояли ширмы, которые отгораживали постель. Меня они очень любили и пускали за ширму. Там был киот в виде закрытого шкафчика, и тетя Нюра показывала мне, что там иконы, и горят лампадки. Задолго до того, как я сознательно пришла к вере, они с дядей Сашей один раз взяли меня на Рождество в храм, не велев ничего говорить родителям. Меня так потряс сам праздник! Это было у Николы в Хамовниках, там в алтаре огромный витраж – светящаяся икона Вознесения Христова, и вот, когда вдруг распахнулись Царские врата, я увидела, что на меня плывет Христос с поднятыми руками!
Наша коммуналка была настоящим социальным срезом: там были напиханы рабочие, старые дворяне, бывшие приказчики, и их объединяло только одно – все дружно ненавидели советскую власть.
Моя ближайшая подруга Инна жила в доме на другой стороне Зубовского бульвара, в ее квартире я тоже знала всех людей. И там тоже все объединялись одним – ненавидели советскую власть.
Я не понимаю, откуда взялись разговоры о том, что народ власть принимал. Я не знаю, когда это было, и что это был за народ. Я этого народа не видела. Никто же не выбирал этих жителей Вороньей слободки – но везде было одно и то же.
В Инкиной квартире жил, между прочим, художник Лев Федорович Жегин-Шехтель, родной сын знаменитейшего архитектора Шехтеля. Он был ближайшим другом гениального художника Василия Чекрыгина, который умер в возрасте 24 лет и был бесспорный гений. Все работы Чекрыгина хранились в крошечной комнатке в огромном сундуке, на котором Лев Федорович с супругой спали. Когда мне было лет 14 или 15, Лев Федорович обратил на меня благосклонное внимание и сказал: «Пойдем ко мне, я покажу вам что-то». Он открыл сундук и стал вынимать оттуда работы Чекрыгина. Я до этого о нем ничего не слыхала, но с первой же работы я поняла, что вижу абсолютного гения.
Я не понимаю, откуда взялись разговоры о том, что народ власть принимал. Я не знаю, когда это было, и что это был за народ. Я этого народа не видела. Никто же не выбирал этих жителей Вороньей слободки – но везде было одно и то же.
В Инкиной квартире жил, между прочим, художник Лев Федорович Жегин-Шехтель, родной сын знаменитейшего архитектора Шехтеля. Он был ближайшим другом гениального художника Василия Чекрыгина, который умер в возрасте 24 лет и был бесспорный гений. Все работы Чекрыгина хранились в крошечной комнатке в огромном сундуке, на котором Лев Федорович с супругой спали. Когда мне было лет 14 или 15, Лев Федорович обратил на меня благосклонное внимание и сказал: «Пойдем ко мне, я покажу вам что-то». Он открыл сундук и стал вынимать оттуда работы Чекрыгина. Я до этого о нем ничего не слыхала, но с первой же работы я поняла, что вижу абсолютного гения.
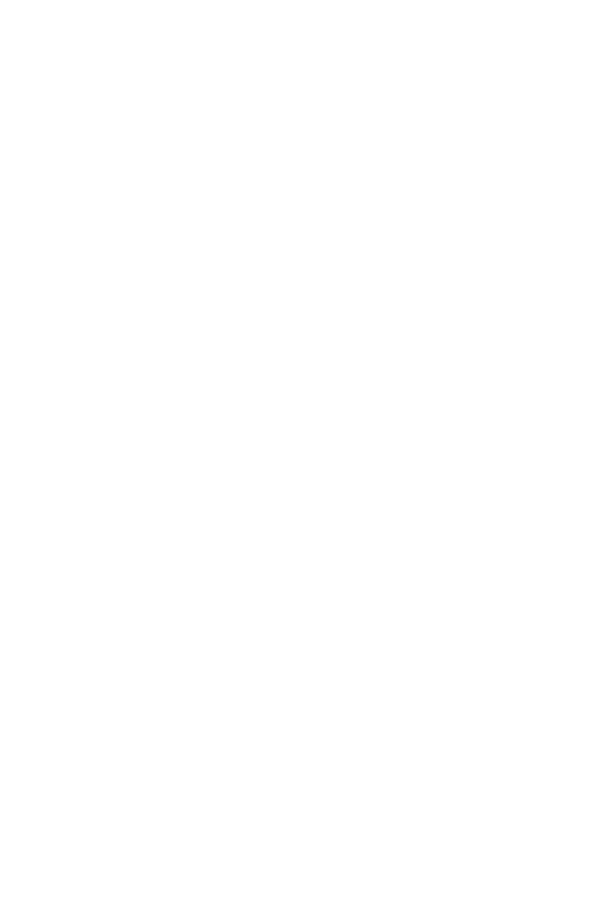
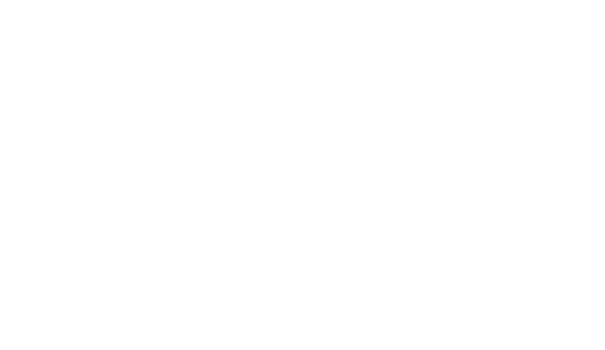
В первой литографированной книге Маяковского «Я!» стихотворения были написаны от руки, а иллюстрации выполнены Василием Чекрыгиным и Львом Шехтелем под псевдонимом Л. Жегин.
Сталинская премия и клопы
Когда мы вернулись из эвакуации в 1945-м году, моя мама поступила на работу. Прачечных тогда еще никаких не было, и мама отдавала стирать белье. Этим занималась Валя Черномордик и более неказистую, страшненькую женщину трудно себе представить. Как-то она не смогла прийти, и мама попросила меня отнести белье к ней в заводское общежитие. Там была огромная-огромная комната, перегороженная ситцевыми занавесочками на десятки клетушек. Десятки! В каждой клетушке был свой примус или керосинка – от испарений туман стоял. Мельтешили маленькие дети, старики, мамы, папы – все это в невероятных количествах. И тут мне стало стыдно: как же роскошно мы живем, какие же мы буржуи!
Вера Черномордик как-то вечером пришла к нам с бельем, а папа только что вернулся с работы и обедал. Она тихо, смиренно поставила белье, взяла от мамы деньги и пошла. Папа вскочил и подал ей пальто в коридоре. Как это было для него естественно! Ему было все равно, какая женщина, кто она, откуда – это была женщина, которая уходила.
Мы воспитывались именно на таких примерах. Когда молодые женщины в приходе меня спрашивают: «Расскажите, матушка, как вас воспитывали?», я отвечаю, что не было никаких разговоров о воспитании и педагогических рассуждений. Родители просто так жили, и этим нас воспитывали.
Вера Черномордик как-то вечером пришла к нам с бельем, а папа только что вернулся с работы и обедал. Она тихо, смиренно поставила белье, взяла от мамы деньги и пошла. Папа вскочил и подал ей пальто в коридоре. Как это было для него естественно! Ему было все равно, какая женщина, кто она, откуда – это была женщина, которая уходила.
Мы воспитывались именно на таких примерах. Когда молодые женщины в приходе меня спрашивают: «Расскажите, матушка, как вас воспитывали?», я отвечаю, что не было никаких разговоров о воспитании и педагогических рассуждений. Родители просто так жили, и этим нас воспитывали.
Папа дома никогда ни о профессии, ни о делах не рассказывал, потому что считал, что это не интересно. Теперь я об этом очень жалею. Будучи уже весьма почтенным научным работником с большим стажем, он все время подрабатывал переводами, потому что жалования не хватало. И мы ничего не ведали о его научных занятиях, не знали, что папа пишет докторскую диссертацию.
В один прекрасный день папа пришел домой очень веселый и сказал: «Ну, кажется, я, наконец, сдал последний экзамен в своей жизни. Я сегодня защитил докторскую». «А-а… – сказала мама спокойно, – ну, поздравляю». И все. А через несколько дней папа пришел домой сердитый: «Напрасно я сказал про последний экзамен. Меня заволокли в кружок по изучению марксизма!»
Потом папу выдвинули на Сталинскую премию, но мы об этом тоже ничего не знали. Он сделал большую работу, к которой сверху приписался начальник, получивший половину премии, и потом еще человек не то шесть, не то восемь, и в конце стоял автор работы.
Потом папу выдвинули на Сталинскую премию, но мы об этом тоже ничего не знали. Он сделал большую работу, к которой сверху приписался начальник, получивший половину премии, и потом еще человек не то шесть, не то восемь, и в конце стоял автор работы.

Фото Валентина Константиновича Житомирского на доске почета в ЦИАМе
Я хорошо помню, как папа с мамой сели вдвоем и подводили бюджет. Они сосчитали нашу часть премии, и мне помнится, что это было 11 тысяч, но я абсолютно не знаю, что это тогда выражало. В итоге мы купили глубокие тарелки, целые простыни взамен старых, абсолютно ветхих, всем членам семьи по паре осенних туфель на микропорке, чтобы не ходить с мокрыми ногами.
Все остальные деньги потратили на поездку в город Гудауты и там провели прекрасный месяц. Мы взяли с собой еще моих двоюродных брата и сестру. Выходили на пляж утром, папа ставил простыню на четырех ножках, мы ложились все головой внутрь, тела загорали на солнце, а мы сочиняли стихи и всячески веселились.
Все остальные деньги потратили на поездку в город Гудауты и там провели прекрасный месяц. Мы взяли с собой еще моих двоюродных брата и сестру. Выходили на пляж утром, папа ставил простыню на четырех ножках, мы ложились все головой внутрь, тела загорали на солнце, а мы сочиняли стихи и всячески веселились.
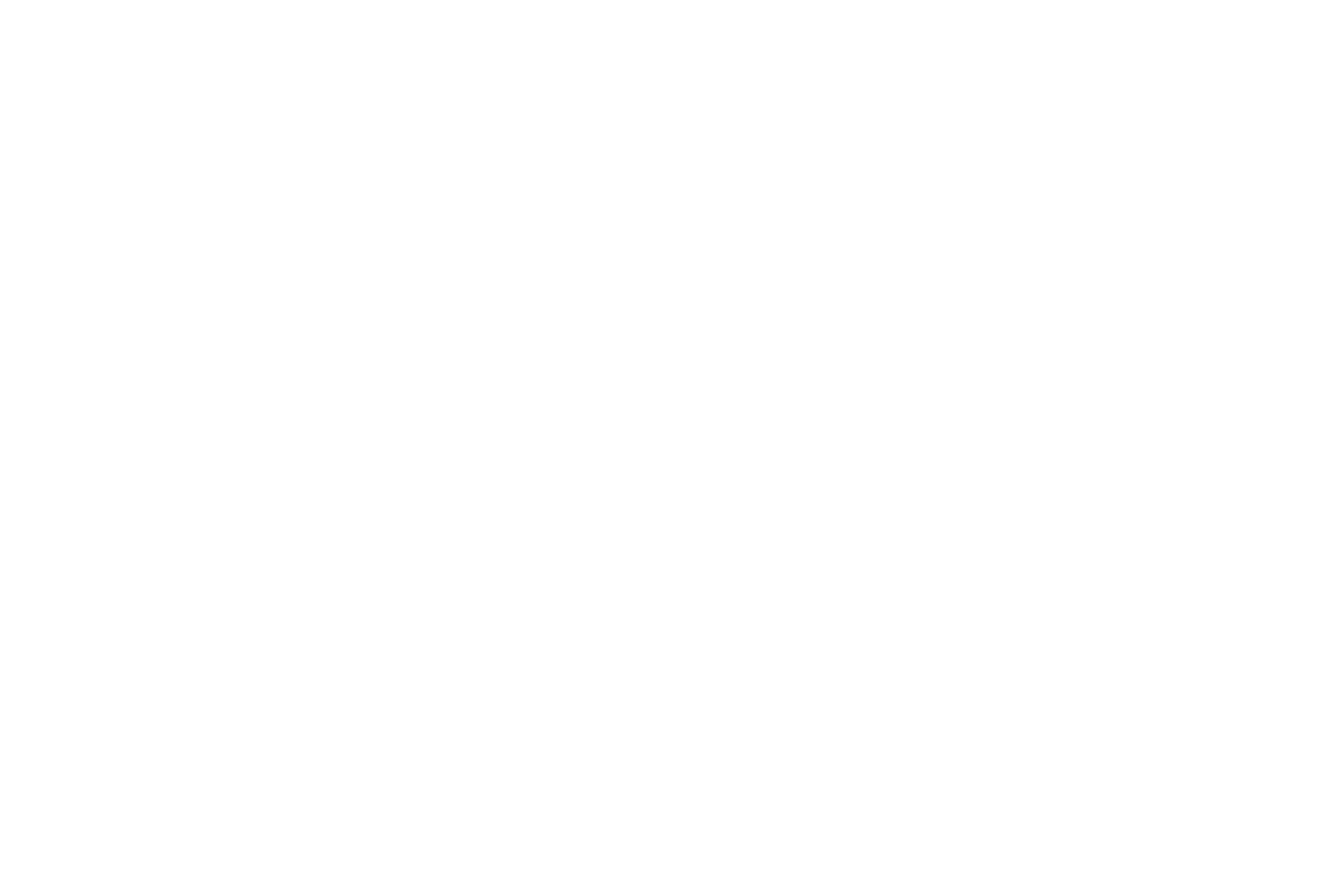
Была, например, поэма «Эклопея» – там нас заедали клопы:
Словесных красок не жалея,
Не в силах будучи уснуть,
Я начинаю «Эклопею»,
Вперед, Пегас, пора нам в путь.
Зашелестело, зашуршало
От низа стен до потолка.
Клопы спешат упиться алой
Живой струей из родника…
Не в силах будучи уснуть,
Я начинаю «Эклопею»,
Вперед, Пегас, пора нам в путь.
Зашелестело, зашуршало
От низа стен до потолка.
Клопы спешат упиться алой
Живой струей из родника…
Мои родители были бесконечно скромные люди. Теперь, когда я рассказываю про них, я испытываю большую неловкость. Когда Анюта (дочь Анна, – прим. ред.) вернулась из Франции в Москву и подружилась с Олей Седаковой, она стала ей рассказывать про дедушку и бабушку, которых она обожала. Оля послушала некоторое время, потом сказала: «Вы понимаете, что у вас была совершенно необыкновенная семья?!» Анюта сказала: «Да, нет. А что?»
Отчаянные славянофилы
Теперь про нас с мужем и эмиграцию. Мы категорически не хотели ехать. Потом, уже в Европе, мне пришлось многократно объяснять настоящую, актуальную ситуацию в Советском Союзе и это был разговор без надежды, что меня поймут.
Я им говорила: «Вы должны понять, что Советский Союз состоит не из послушно шагающих рабов и страшного начальства, которое сажает и терроризирует, а из государства и общества. И огромная часть общества живет не по заветам начальства, а своей жизнью, и эта жизнь активная, культурная, духовная».
Я им говорила: «Вы должны понять, что Советский Союз состоит не из послушно шагающих рабов и страшного начальства, которое сажает и терроризирует, а из государства и общества. И огромная часть общества живет не по заветам начальства, а своей жизнью, и эта жизнь активная, культурная, духовная».
Мы все, несколько поколений, выросли в русской культуре, любили Россию со страстью. И если можно всю русскую интеллигенцию разделить условно на западников и славянофилов, то мы были отчаянные славянофилы, а советскую власть столь же отчаянно не любили. Но прекрасно жили в этом.
Мы знали, что не сможем сделать карьеру, не захотим и не будем, у нас другое направление. Но людей, которые нас понимали, было вокруг море. И поэтому мои девочки о своем еврействе, не скажу, что не знали, но никогда не думали, это не было предметом разговоров.
Они были девушки образованные, мы старались жить с ними единой жизнью. Они слушали музыку, ходили в музеи, читали книги запоем без всякого усилия с нашей стороны. Когда моей младшей дочери было восемь лет, она у нас как-то утром исчезла. Ищем, ищем — ни в кухне, ни в комнатах ее нет. Я уже испугалась, думаю, наверное, вышла погулять, а я не заметила. И вдруг из туалета раздается голос: «Они его убили! Нет, он сам убился!» Оказывается, она нашла «Гамлета» в переводе Пастернака и читала в туалете от начала до конца.
Они были девушки образованные, мы старались жить с ними единой жизнью. Они слушали музыку, ходили в музеи, читали книги запоем без всякого усилия с нашей стороны. Когда моей младшей дочери было восемь лет, она у нас как-то утром исчезла. Ищем, ищем — ни в кухне, ни в комнатах ее нет. Я уже испугалась, думаю, наверное, вышла погулять, а я не заметила. И вдруг из туалета раздается голос: «Они его убили! Нет, он сам убился!» Оказывается, она нашла «Гамлета» в переводе Пастернака и читала в туалете от начала до конца.
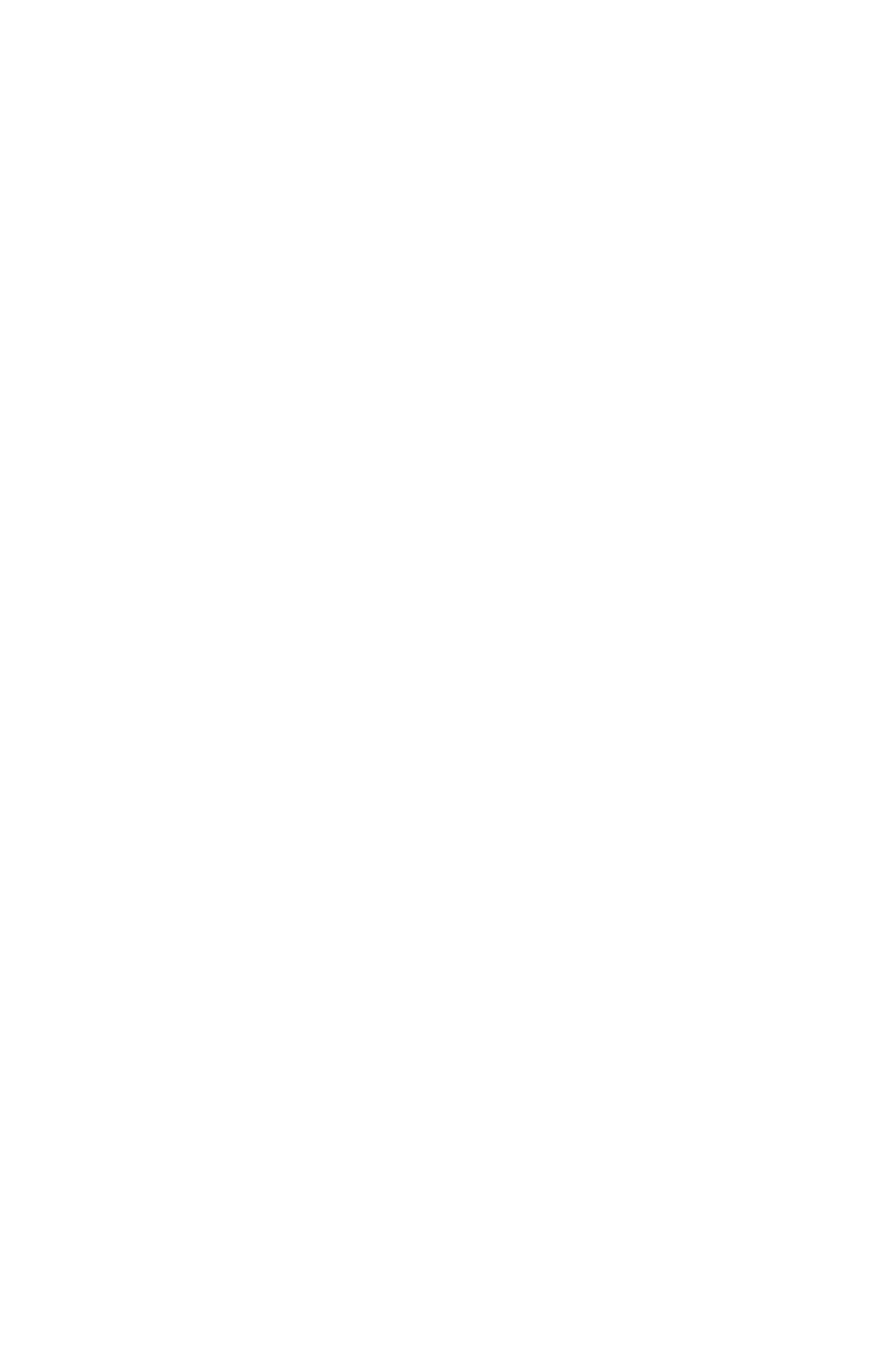
К тому моменту, как мы стали уезжать, Анка дважды не смогла поступить в институт, а Таня чуть из школы не вылетела, потому что учительница истории стала рассказывать, какой мерзавец и изменник Солженицын. А моя Таня, не долго думая, подняла руку и говорит: «Это все гнусная клевета, это великий русский писатель». Меня вызвали в школу, замечательный был разговор. Учительница, молоденькая девочка, говорит: «Вы понимаете, я же обязана реагировать».

– Это наши проводы, было 200 с лишним человек. Это Танечка со своими приятелями. Таня в центре, – М.Шмаина
У родителей Ильи была сильная мотивация уехать. Ханан Моисеевич был в плену, писал по этому поводу интересные сценарии и мечтал их претворить в жизнь. В их киношном доме на «Аэропорте» этажом выше жил кинорежиссер Михаил Калик, снявший известный фильм «Человек идет за солнцем». И этот Калик, когда уезжал в Израиль, с большим шумом и треском выломал камин, который он соорудил в своем кооперативном доме, и увез его с собой. И этот камин произвел на Ильюшиных родителей страшное впечатление. Они поняли, что можно все забрать, включая камин, который полетит на историческую родину. И они поднялись и улетели. И это, конечно, подогрело отца Илью.
Немного про родителей Ильи. Лия Львовна (мама Ильи) училась в университете в Польше и была настроена социалистически, была членом БУНДа. Когда в конце 20-х годов усилился антисемитизм, Лия Львовна решила уехать в Советский Союз и там строить социализм.
Она приехала в Киев, преподавала литературу на идише в еврейской школе и познакомилась с очень молодым режиссером Хананом Моисеевичем Шмаиным, который работал с Лесем Курбасом и был многообещающим и талантливым. Он страстно в Лию влюбился и начал за ней ухаживать. В конце концов, она на его ухаживания сдалась, и они поженились.
Немного про родителей Ильи. Лия Львовна (мама Ильи) училась в университете в Польше и была настроена социалистически, была членом БУНДа. Когда в конце 20-х годов усилился антисемитизм, Лия Львовна решила уехать в Советский Союз и там строить социализм.
Она приехала в Киев, преподавала литературу на идише в еврейской школе и познакомилась с очень молодым режиссером Хананом Моисеевичем Шмаиным, который работал с Лесем Курбасом и был многообещающим и талантливым. Он страстно в Лию влюбился и начал за ней ухаживать. В конце концов, она на его ухаживания сдалась, и они поженились.
– Лия Львовна была знаменитая красавица, – М.Шмаина
Ханан Моисеевич Шмаин
– В Израиле, тоже выехавшие отец и мать Ильи, совсем старенькие, – М.Шмаина
Илья хотел уехать, он подписывал все письма – в защиту того, в защиту этого, мы даже ссорились. Пять лет мы так провели, и Таня, моя младшая, под конец взмолилась: «Мама, давайте решать – или едем, или не едем. Я так больше жить не могу!»
И тут пришел вызов из Израиля, организованный одним из наших друзей, хотя мы не просили. Меня тут же выгнали с работы. Куда бы я ни шла устраиваться, мне говорили: «А нам позвонили, сказали, что вы в Израиль собираетесь. Зачем же мы вас будем брать на работу?»
Но никогда не бывает плохого без хорошего. Поскольку я сидела без работы, а жить как-то надо, то один наш друг – Миша Меерсон-Аксенов, теперь уже давно очень известный в Америке православный священник, а тогда просто верующий молодой полуеврей, перед отъездом в Америку пришел ко мне и сказал: «Я тебя устрою в Московскую патриархию, я сам там все время перевожу». Там был действительно замечательный Евгений Алексеевич Карманов, который один представлял всю редакцию. Он стал давать мне книги, и я хорошо познакомилась с зарубежной духовной литературой. Я перевела, например, толстенную книгу Федотова «Russian Religious Mind», которую он написал, уже когда стал профессором в Америке, в знаменитой Свято-Владимирской семинарии.
Весь день я занималась хозяйством, весь день гомонились люди, дети, детские друзья, друзья отца Ильи, друзья младшей дочки, а ночью, когда все ложились спать, садилась за стол и переводила полезные книжки.
И тут пришел вызов из Израиля, организованный одним из наших друзей, хотя мы не просили. Меня тут же выгнали с работы. Куда бы я ни шла устраиваться, мне говорили: «А нам позвонили, сказали, что вы в Израиль собираетесь. Зачем же мы вас будем брать на работу?»
Но никогда не бывает плохого без хорошего. Поскольку я сидела без работы, а жить как-то надо, то один наш друг – Миша Меерсон-Аксенов, теперь уже давно очень известный в Америке православный священник, а тогда просто верующий молодой полуеврей, перед отъездом в Америку пришел ко мне и сказал: «Я тебя устрою в Московскую патриархию, я сам там все время перевожу». Там был действительно замечательный Евгений Алексеевич Карманов, который один представлял всю редакцию. Он стал давать мне книги, и я хорошо познакомилась с зарубежной духовной литературой. Я перевела, например, толстенную книгу Федотова «Russian Religious Mind», которую он написал, уже когда стал профессором в Америке, в знаменитой Свято-Владимирской семинарии.
Весь день я занималась хозяйством, весь день гомонились люди, дети, детские друзья, друзья отца Ильи, друзья младшей дочки, а ночью, когда все ложились спать, садилась за стол и переводила полезные книжки.
Бог в дожде
Анка перед отъездом приехала в Тарусу, где мы жили, когда она была совсем маленькая, и попрощалась со своей любимой няней. Баба Варя была необыкновенная: высокая, стройная, дочерна загорелая старуха. У нее была дочь, ее муж – сказочный красавец, пьяница, негодяй, деньги все пропивал, жену избивал страшно. У них было десятеро детей, и всех растила и воспитывала баба Варя. Что она могла? Она стирала у одних, пилила дрова у других, мы ее брали няней. Всю неделю она работала как проклятая. Но дети были все чистенькие, с сияющими глазами, румяные, с золотистыми волосами.
Мы няню старались подкармливать. Я помню, моя мама говорит: «Варечка, поешьте. Я вот сварила кашку пшенную». А был Великий пост. Она ест с удовольствием, потом кладет ложку и говорит с сомнением: «Ой, что-то вкусная каша. Наверное, вы молочка плеснули». А мама: «Грех на мне, грех на мне!».
Она очень смущалась, что ее прикармливают, и как-то принесла нам огромную миску божественной капусты, которую сама заквасила. Угостила. Я говорю: «Мам, ведь это для нее не то, что для нас кашка».
Мы няню старались подкармливать. Я помню, моя мама говорит: «Варечка, поешьте. Я вот сварила кашку пшенную». А был Великий пост. Она ест с удовольствием, потом кладет ложку и говорит с сомнением: «Ой, что-то вкусная каша. Наверное, вы молочка плеснули». А мама: «Грех на мне, грех на мне!».
Она очень смущалась, что ее прикармливают, и как-то принесла нам огромную миску божественной капусты, которую сама заквасила. Угостила. Я говорю: «Мам, ведь это для нее не то, что для нас кашка».
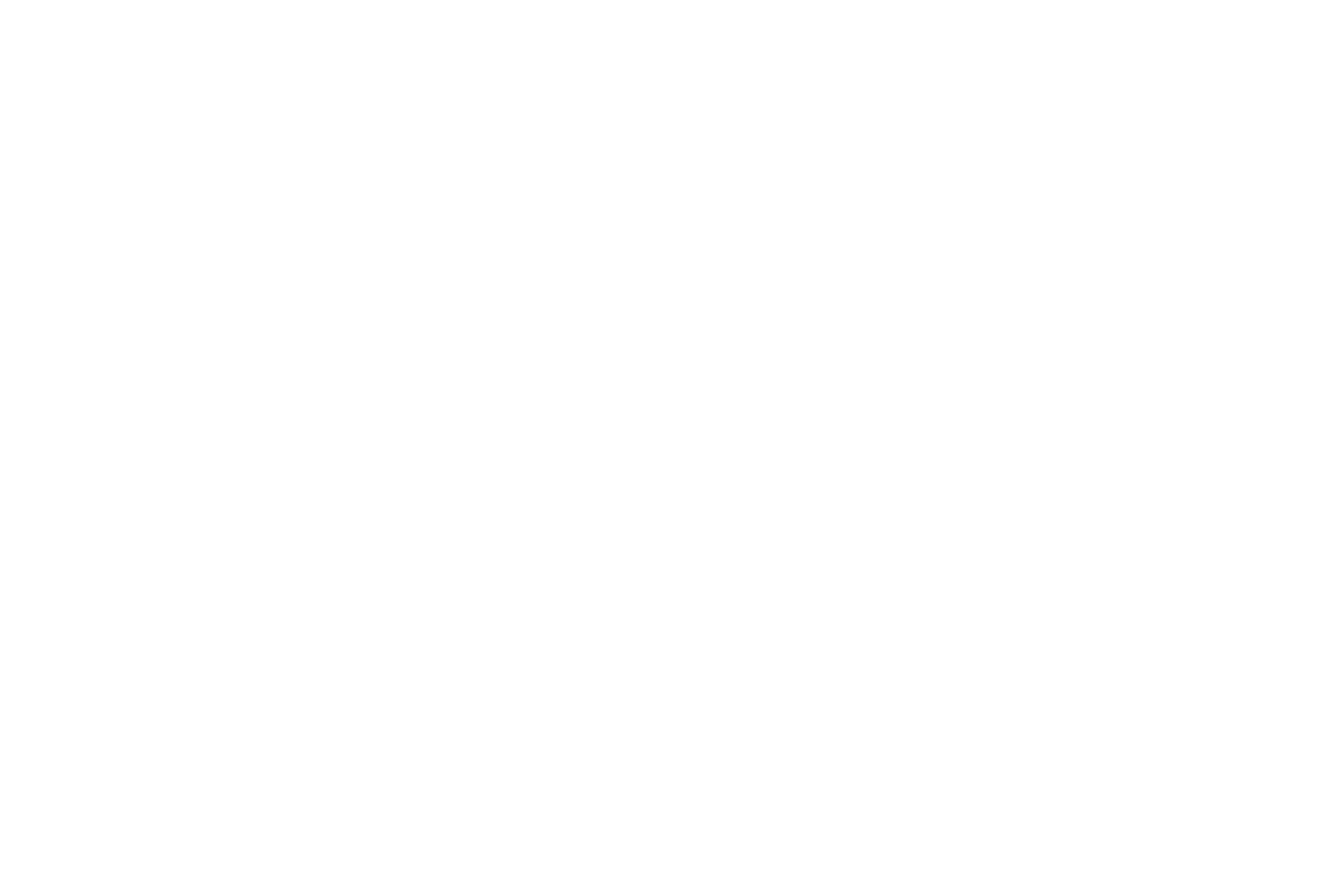
Один раз няня Варя пришла к нам осенью и говорит: «Картошку весь день копали. На борозде оставили два мешка, на другой конец ушли, и кто-то полмешка свистнул». Я возмущаюсь: «Какие же мерзавцы, у вас красть! Ведь свои же, знают, что…». Она говорит: «Наверное, голодные. Если бы не голодные, не стали бы картошку красть».
Как-то весной дождик мелкий, грибной моросил, и баба Варя говорит: «Какой дождь-то хороший идет! А говорят, Бога нет…»
Чужое место
Тогда это было большое событие – сам полет. Я, например, хотя мне было 42 года, летела на самолете первый раз в жизни, а ведь дочь авиационного инженера. Провожающих было очень много.
Я хочу сделать маленькое отступление, мне это очень важно. Моя дорогая подруга, умная, образованная, прекрасная женщина приехала ко мне во Францию, пожила у нас и говорит мне: «Маша, мне очень хочется, чтобы ты сходила со мной в Шапель (Сент-Шапель, часовня-реликварий в Париже – прим. ред.). Я знаю, что ты ненавидишь Францию, но это так красиво». Я говорю: «Лилечка, откуда ты взяла, что я ненавижу Францию?» – «Ну вот ты такие вещи обычно говоришь». Я отвечаю: «Я Францию очень люблю. Просто рассказываю тебе, каково эмигранту в чужой стране. Это прекрасная страна редкой красоты с дивной культурой, великолепным искусством. Но мы им не нужны. Мы неприятные и нежелательные прихлебатели. И это положение трагично. Из него нет никакого хорошего выхода».
Те, кто ездят поглядеть, видят то, что показывают туристам. Туристы приезжают, чтобы увидеть все, что хорошо, красиво, вкусно, интересно. А люди, которые там живут, понимают, что для того чтобы туристы ездили, их нужно принять как можно лучше. Но когда вы приезжаете как эмигрант, попадаете в позицию, что занимаете чужое место, если работаете, и занимаете чужое жилье, если живете. Тогда жизнь поворачивается к вам совершенно другой стороной.
При этом у нас были замечательные друзья в Израиле, во Франции, среди первой, второй и третьей эмиграции и среди французов. Но было много очень тяжелого.
Просидели мы в Австрии, в Шенбрунне трое или четверо суток. Ко мне приставали: «Что-то у вас какой-то очень русский облик». Я говорю: «Не знаю, облик какой есть». В Израиле национальность считается по матери, а в остальных европейских странах и, в частности, в России – по отцу. «Как зовут вашу маму? А как звали вашу бабушку, мамину мать, вы не знаете, случайно?». Я спокойно говорю: «Прасковья Григорьевна». – «Ах, видите! А вы говорите…»
Тем не менее, мы полетели. Подняли нас почему-то ночью, отвезли на аэродром и посадили в раздолбанный самолет, который весь на глазах бренчал и рассыпался. Мы замерзли так, что просто не могли шевелиться, были все синие. Я страшно беспокоилась за детей. В аэропорту опросили, записали, обмерили. Оказалось, что в Израиле в браке женщине нельзя сохранять девичью фамилию, а я не меняла фамилию из-за небольшого количества своих научных статей.
Просидели мы в Австрии, в Шенбрунне трое или четверо суток. Ко мне приставали: «Что-то у вас какой-то очень русский облик». Я говорю: «Не знаю, облик какой есть». В Израиле национальность считается по матери, а в остальных европейских странах и, в частности, в России – по отцу. «Как зовут вашу маму? А как звали вашу бабушку, мамину мать, вы не знаете, случайно?». Я спокойно говорю: «Прасковья Григорьевна». – «Ах, видите! А вы говорите…»
Тем не менее, мы полетели. Подняли нас почему-то ночью, отвезли на аэродром и посадили в раздолбанный самолет, который весь на глазах бренчал и рассыпался. Мы замерзли так, что просто не могли шевелиться, были все синие. Я страшно беспокоилась за детей. В аэропорту опросили, записали, обмерили. Оказалось, что в Израиле в браке женщине нельзя сохранять девичью фамилию, а я не меняла фамилию из-за небольшого количества своих научных статей.
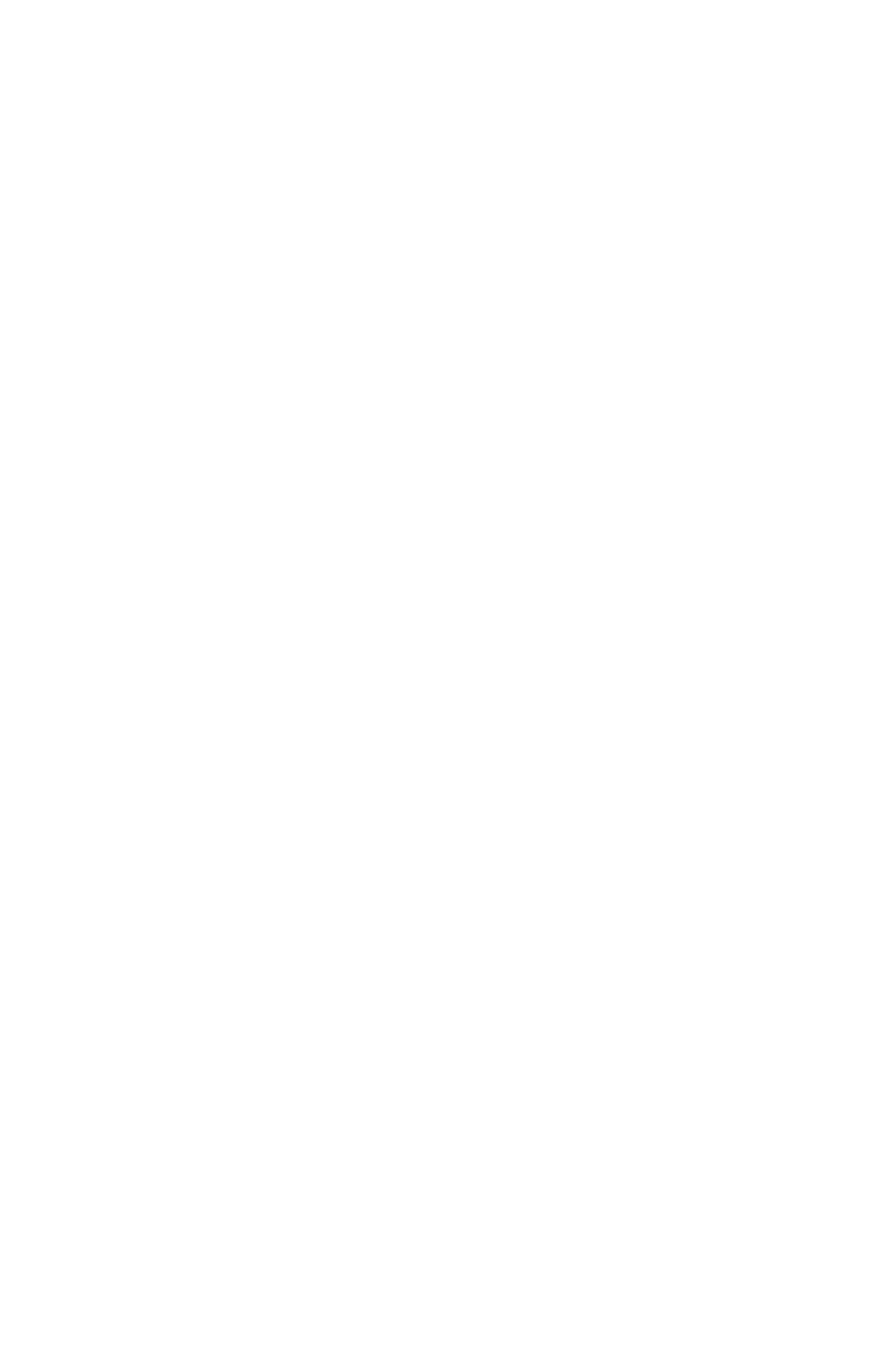
Мне быстренько вписали «Шмаина» в паспорт. И нас спросили, куда мы хотим лететь, в какой город, чтобы абсорбироваться. И мы дружно сказали: «В Иерусалим, конечно».
– Отец Илья немедленно по прибытии в Израиль, как все живые и шевелящиеся, был немедленно взят на военную службу. Здесь он в полной военной форме и с автоматом за спиной прибыл домой. Есть такая служба в Израиле, называется милуим – каждый боеспособный мужчина два-три раза в год призывается на неделю-две, чтобы не размагничивались, потому что каждую минуту может быть нападение. Когда Илюша пришел в военкомат, его осмотрели и говорят: «Сто процентов здоров». Илья удивился: «У меня всегда, даже в лагере находили порок сердца». – «Да что ты! Ты здоров, как бык», – М.Шмаина

Еврейка. Но христианка
Это было очень интересное время. Еще был большой запас энергии веселья, привезенной из России. Мы с увлечением учились. Прожили мы в ульпане полгода. Оттуда никого не гнали, можно было жить.
Советские люди были, в основном, катастрофически неподготовленными к переходу в новый мир. Директор нашего заведения был верующим иудеем. Без нажима он собрал нас и стал знакомить с основными положениями иудаизма, потому что в Израиле нет отделения религии от государства, поэтому каждый, кто еврей, он иудей. Нет даже такой графы в паспорте.
Моя подруга Света Шенбрунн затеяла многолетнюю тяжбу с Министерством внутренних дел, потребовав, чтобы ей в паспорте не писали, что она иудейка, потому что она христианка. «Но вы еврейка?» – «Еврейка. Но христианка. Не желаю. Пишите, что есть». Пять лет она боролась, пока они не плюнули и не написали «христианка».
Стали ходить по гостям. У нас был друг еще по Москве, очень интересный человек – Павел Юрьевич Гольдштейн. Он работал в молодежной студии, которую организовали Мейерхольд с Маяковским. Играл во всяких спектаклях, в общем, был пламенный театрал самого левого, современного толка. Когда Мейерхольда посадили, этот умный еврейский мальчик написал от себя лично большое письмо товарищу Сталину, в котором разъяснял, что произошла ошибка, великому вождю, наверное, не объяснили, что Мейерхольд – величайший, гениальнейший, что весь мир у него учится, что это сокровище. Через три дня за ним, естественно, пришли, и он попал в самый пыточный разгар. Он оказался юношей с очень сильным характером. Его пытали, а он ничего не подписывал. Пытали страшно. Они привели его старую маму и пытали ее у него на глазах. И он все равно ничего не подписал, а потом себя проклинал за то, что не подписал. Потом его содержали в страшной тюрьме Сухановке, уехал на 17 лет в лагерь… В Израиль он отбыл из нашей большой компании первым. Долго, с шумом учил иврит, и потом Евгений Борисович Федоров пришел и сказал: «Я провожал Павла. Он произнес пылкую речь на иврите на аэродроме. По-моему, он просто перечислил еврейский алфавит».
Советские люди были, в основном, катастрофически неподготовленными к переходу в новый мир. Директор нашего заведения был верующим иудеем. Без нажима он собрал нас и стал знакомить с основными положениями иудаизма, потому что в Израиле нет отделения религии от государства, поэтому каждый, кто еврей, он иудей. Нет даже такой графы в паспорте.
Моя подруга Света Шенбрунн затеяла многолетнюю тяжбу с Министерством внутренних дел, потребовав, чтобы ей в паспорте не писали, что она иудейка, потому что она христианка. «Но вы еврейка?» – «Еврейка. Но христианка. Не желаю. Пишите, что есть». Пять лет она боролась, пока они не плюнули и не написали «христианка».
Стали ходить по гостям. У нас был друг еще по Москве, очень интересный человек – Павел Юрьевич Гольдштейн. Он работал в молодежной студии, которую организовали Мейерхольд с Маяковским. Играл во всяких спектаклях, в общем, был пламенный театрал самого левого, современного толка. Когда Мейерхольда посадили, этот умный еврейский мальчик написал от себя лично большое письмо товарищу Сталину, в котором разъяснял, что произошла ошибка, великому вождю, наверное, не объяснили, что Мейерхольд – величайший, гениальнейший, что весь мир у него учится, что это сокровище. Через три дня за ним, естественно, пришли, и он попал в самый пыточный разгар. Он оказался юношей с очень сильным характером. Его пытали, а он ничего не подписывал. Пытали страшно. Они привели его старую маму и пытали ее у него на глазах. И он все равно ничего не подписал, а потом себя проклинал за то, что не подписал. Потом его содержали в страшной тюрьме Сухановке, уехал на 17 лет в лагерь… В Израиль он отбыл из нашей большой компании первым. Долго, с шумом учил иврит, и потом Евгений Борисович Федоров пришел и сказал: «Я провожал Павла. Он произнес пылкую речь на иврите на аэродроме. По-моему, он просто перечислил еврейский алфавит».
Мы к нему приехали как к человеку довольно укоренившемуся, местному. Он уже работал в каком-то русскоязычном журнале, обзавелся женой. Во время нашей беседы он спросил Илью: «Вы уже поняли, что истина не в христианстве, а в иудаизме?» Илья, как вы понимаете, ответил, что не понял и никогда не поймет. Тогда Павел разразился страшными криками и стал нам говорить, какое это негодяйство — отказываться от веры отцов. Илья говорит: «А где у вас-то вера отцов была? Мы же с вами давно знакомы». В общем, был тяжелый разговор, долгий, неприятный. И когда мы уходили, Павел Юрьевич сказал: «Нет, мы этого так не оставим. Мы с профессором Брановером – был там такой деятель пылкий – добьемся, чтобы вас выслали из Израиля как христиан». Мы этого всерьез не приняли, конечно, и поехали домой.
Прошло несколько дней. Сидим после ульпана дома, мирно обедаем. Вдруг подъезжает большой автобус, оттуда высыпает большая толпа религиозных евреев в черных шляпах, с длинными пейсами и в черных халатах, и начинают налетать на наш дом. Илья к ним вышел, а они стали его хватать руками и вопить: «Христианин! Христианин!»
Прошло несколько дней. Сидим после ульпана дома, мирно обедаем. Вдруг подъезжает большой автобус, оттуда высыпает большая толпа религиозных евреев в черных шляпах, с длинными пейсами и в черных халатах, и начинают налетать на наш дом. Илья к ним вышел, а они стали его хватать руками и вопить: «Христианин! Христианин!»
А Илья говорит: «Я с вами не буду разговаривать, потому что я не верю, что вы верующие. Верующий человек не может бить человека, о котором он ничего не знает».
Короче говоря, они упаковались и уехали. Это у нас был первый такой привет.
Потом мы опять со своим христианством отличились совершенно неожиданно. На Рождество прилетает из Франции в гости Кирилл Великанов и тащит живую елку. Во-первых, елок в Израиле нет, во-вторых, сами понимаете. Мы от «большого» ума, несмотря на то, что уже имели некоторый опыт, ставим эту елку прямо перед балкончиком. Убираем ее красиво. Как всегда, мы с девочками делаем сами игрушки, украшаем, зажигаем свечки. Приезжает Миша Меерсон и привозит еще одну елку из Америки, пластмассовую, но красивую. Мы ее водружаем в другой комнате. И тут влетает какой-то абсолютно психованный еврей из живущих в ульпане, хватает громадный булыжник и со всего маху запускает его нам в окно. Все окно вдребезги, елка падает. И невероятно истеричным голосом вопит: «Фашисты! Нацисты!». Правда, тут дирекция ульпана мгновенно вызвала полицию, его скрутили, но зрелище было ужасное. И пока его волокли к полицейской машине, он кричал: «Освенцим! Бухенвальд!»
Потом мы опять со своим христианством отличились совершенно неожиданно. На Рождество прилетает из Франции в гости Кирилл Великанов и тащит живую елку. Во-первых, елок в Израиле нет, во-вторых, сами понимаете. Мы от «большого» ума, несмотря на то, что уже имели некоторый опыт, ставим эту елку прямо перед балкончиком. Убираем ее красиво. Как всегда, мы с девочками делаем сами игрушки, украшаем, зажигаем свечки. Приезжает Миша Меерсон и привозит еще одну елку из Америки, пластмассовую, но красивую. Мы ее водружаем в другой комнате. И тут влетает какой-то абсолютно психованный еврей из живущих в ульпане, хватает громадный булыжник и со всего маху запускает его нам в окно. Все окно вдребезги, елка падает. И невероятно истеричным голосом вопит: «Фашисты! Нацисты!». Правда, тут дирекция ульпана мгновенно вызвала полицию, его скрутили, но зрелище было ужасное. И пока его волокли к полицейской машине, он кричал: «Освенцим! Бухенвальд!»

– Это наше первое Рождество в Израиле, когда нам погром устроили. Нам Кирилл привез из Парижа елку, – М.Шмаина
Поселок Новояковка
Искать работу мы, советские люди, совершенно не умели. Отец Илья ездил в разные места, где были объявления, что ищут лингвиста, программиста, структуралиста, не понимая того, что система во многом похожа на советскую, поскольку строили-то ее кто, в основном? И что эти объявления – для порядку, что у них бывают конкурсы, а на самом деле там давно сидят свои люди.
А мне чудом повезло. Кто-то из наших новых друзей сказал, что в Иерусалиме есть замечательный археологический музей Рокфеллера, «поезжай, попробуй, поговори». Я взяла дипломчик и поехала. Музей помещался на так называемых «оккупированных Израилем территориях», рядом со старым городом в высокой башне. Мне сказали: «Я понимаю, что вы археолог, но вы специалист по Древней Руси. Что вы будете делать в археологии в Израиле? И потом, я вам скажу откровенно: в вашем возрасте в Израиле вы не выдержите работы в поле». И тут я вспомнила: «А я на втором курсе прошла курс реставрации археологических предметов». «А это дело другое. Реставратором мы вас возьмем». И я одна из первых в нашем поселке получила постоянную работу. Правда, не сразу.
А мне чудом повезло. Кто-то из наших новых друзей сказал, что в Иерусалиме есть замечательный археологический музей Рокфеллера, «поезжай, попробуй, поговори». Я взяла дипломчик и поехала. Музей помещался на так называемых «оккупированных Израилем территориях», рядом со старым городом в высокой башне. Мне сказали: «Я понимаю, что вы археолог, но вы специалист по Древней Руси. Что вы будете делать в археологии в Израиле? И потом, я вам скажу откровенно: в вашем возрасте в Израиле вы не выдержите работы в поле». И тут я вспомнила: «А я на втором курсе прошла курс реставрации археологических предметов». «А это дело другое. Реставратором мы вас возьмем». И я одна из первых в нашем поселке получила постоянную работу. Правда, не сразу.
«У нас тут сидит сумасшедшая, которая уже три, четыре месяца работает бесплатно».
Мне сказали: «Вы понимаете, надо подождать. Нам понадобится пара месяцев, чтобы выбить вам ставку». Но тут меня опять Господь надоумил. Я говорю: «А можно, я буду пока учиться и работать бесплатно?» Археологи бегали на меня смотреть и водили знакомых показывать:
В ужасе уже находящееся начальство выбило мне штатную единицу, и я стала первой, кто получил постоянную работу.
Нам предложили квартиру в поселке Неве Яаков, что значит «пастбище Иакова». Но наши советские люди сразу назвали это «поселок Новояковка». Это был такой форпост, дальше начинались сплошь арабские поселения. В доме было огромное окно, которое выходит в иудейскую пустыню. Она очень красивая, на самом деле, а дальше прекрасные синие пологие горы. И арабская деревня – библейская Анатот, из которой был родом пророк Иеремия, оттуда выгоняли козла отпущения. Жизнь с окнами на такое!
Я тут же взяла квартиру, конечно. Пятиэтажные, крупноблочные, отвратительно построенные дома под крышей в израильском климате: девять месяцев в году — как в раскаленной печке. И постоянно лило во время зимних дождей с потолка. Но ничего. Мы стали в ней жить, потом нашел работу и Илья.
Я тут же взяла квартиру, конечно. Пятиэтажные, крупноблочные, отвратительно построенные дома под крышей в израильском климате: девять месяцев в году — как в раскаленной печке. И постоянно лило во время зимних дождей с потолка. Но ничего. Мы стали в ней жить, потом нашел работу и Илья.
Тогда было очень плохо с отпусками в Израиле. Как в Америке – 10 дней в году и все. Поэтому мы с отцом Ильей несколько лет в отпуск вовсе не ходили: было много проблем с детьми, потом приехала моя мама. Отец мой умер. Я его не проводила и не попрощалась. Папа был очень крупный специалист по авиационным моторам и его, конечно, не выпустили. Начальник ОВИРа так и сказал: «Какой вы наивный человек, Валентин Константинович! Неужели вы думали, что такого работника, как вы, мы отпустим?» Папа говорит: «Но я уже 20 лет на пенсии. Когда я работал в авиационной промышленности, еще были дизели» «Да при чем тут топливо? Мозги ваши при вас. Зачем же мы будем отпускать такую голову?» У папы сделался тяжелый инсульт, через некоторое время второй. Я стала бегать, подавала какие-то заявления. Ничего не помогло. Он скончался без меня. Но после его смерти маму сразу отпустили.
Валентин Константинович Житомирский
– Это мама с Федей Поленовым, правнуком Поленова, после папиной смерти. Он часто приезжал ее утешать. Теперь это почтенный доктор геологических наук. 1976 год, – М.Шмаина
На четвертый год нашей жизни в Израиле мы все-таки решили взять отпуск и отправились в пеший поход в Галилею дорогой Спасителя. Сами понимаете, денег ни на какие поездки, туры у нас никогда не было. Мы взяли с собой молодежь, которая стала ходить к Илье, еще когда мы сидели в ульпане.
Начался хамсин, это по-арабски значит «пятьдесят». Примерно пятьдесят дней в году в Израиле дует страшный ветер из Африки, принося из пустыни горячий, раскаленный воздух с мельчайшими частицами песка. Дышать абсолютно нечем, жара страшная. Но мы шли с энтузиазмом, отдыхали днем. На третий день у нас кончились продукты, мы плохо рассчитали. И вот лезем по горам, жара нечеловеческая, но впереди какое-то потрясающей красоты поселение — древнейшее, библейских времен, с циклопической кладкой громадными камнями, с жертвенником, от которого каменные желобки для стока крови. Там был глубочайший колодец, и ведро было при нем. Мы обливались ледяной водой, стояли, наверное, час, приходили в себя. А потом узнали, что это был тот колодец, у которого Иаков встретил Рахиль.
Начался хамсин, это по-арабски значит «пятьдесят». Примерно пятьдесят дней в году в Израиле дует страшный ветер из Африки, принося из пустыни горячий, раскаленный воздух с мельчайшими частицами песка. Дышать абсолютно нечем, жара страшная. Но мы шли с энтузиазмом, отдыхали днем. На третий день у нас кончились продукты, мы плохо рассчитали. И вот лезем по горам, жара нечеловеческая, но впереди какое-то потрясающей красоты поселение — древнейшее, библейских времен, с циклопической кладкой громадными камнями, с жертвенником, от которого каменные желобки для стока крови. Там был глубочайший колодец, и ведро было при нем. Мы обливались ледяной водой, стояли, наверное, час, приходили в себя. А потом узнали, что это был тот колодец, у которого Иаков встретил Рахиль.
Нехватка стульев
Жизнь в поселке Новояковка была очень забавная: народ со всего мира — американцы, европейцы, африканцы. Отец Илья работал в Реховоте, это академический научный город. Он там нашел интересную работу почти по специальности, то есть тоже занимался языками искусственного интеллекта. Ездил на автобусе из Иерусалима в Реховот – утром вниз с горки, вечером вверх, обратно в Иерусалим. Приезжал усталый страшно – перепад давлений. А тут уже молодежь сидит и ждет, что он им расскажет. Чем я могу их накормить, чтобы не пойти по миру? Я пеку пироги бесконечно, и они съедаются с неслыханной скоростью.
Первое, что мы сделали, когда въехали в новую квартиру, – поставили громадный стол посередине большой гостиной. В Израиле был финский христианский кибуц, христиане, которые были за Израиль, из идейных библейских представлений хотели ему помогать. Так вот эти Роненги, он – норвежец, она – финка, привезли нам, когда мы въехали в новую квартиру, громадные скамьи. Они сказали: «Мы вас поняли. У вас все всегда будут сидеть за столом, и всегда будет не хватать стульев». И еще они привезли и повесили нам на окна занавески. Мы накупили большие книжные полки, а я сделала из привезенных из Москвы павловских шерстяных платков абажуры. Стало красиво.
Я вставала в полшестого. Делала что-то по хозяйству и ехала на работу на другой конец города. Отец Илья на свою работу тащился, иногда меня провожал. Такая невероятная экзотика на арабской стороне! Там была узенькая улица, через которую я шла на работу. Сначала я шла по еврейскому религиозному кварталу, потом большой пустырь, который разделял еврейский религиозный квартал и арабский. Подходишь и видишь: за стеной, которая разгораживает, огромный крест.
Первое, что мы сделали, когда въехали в новую квартиру, – поставили громадный стол посередине большой гостиной. В Израиле был финский христианский кибуц, христиане, которые были за Израиль, из идейных библейских представлений хотели ему помогать. Так вот эти Роненги, он – норвежец, она – финка, привезли нам, когда мы въехали в новую квартиру, громадные скамьи. Они сказали: «Мы вас поняли. У вас все всегда будут сидеть за столом, и всегда будет не хватать стульев». И еще они привезли и повесили нам на окна занавески. Мы накупили большие книжные полки, а я сделала из привезенных из Москвы павловских шерстяных платков абажуры. Стало красиво.
Я вставала в полшестого. Делала что-то по хозяйству и ехала на работу на другой конец города. Отец Илья на свою работу тащился, иногда меня провожал. Такая невероятная экзотика на арабской стороне! Там была узенькая улица, через которую я шла на работу. Сначала я шла по еврейскому религиозному кварталу, потом большой пустырь, который разделял еврейский религиозный квартал и арабский. Подходишь и видишь: за стеной, которая разгораживает, огромный крест.
На пустыре всегда стоял длинный, худой молодой религиозный еврей с пейсами, в шляпе и пас овец. И у него на одной руке лежал очередной крошечный ягненочек, а в другой он держал Библию и, как у них полагается, читал нараспев, раскачиваясь. Я переходила из Ветхого завета в Новый — вот такие чудеса со мной происходили.
А у отца Ильи, уже когда он был священником и на Пасху служил у Гроба Господня, было такое приключение. Совершенно пустынно, четыре часа утра: с бородой, с длинными волосами он идет по этому еврейскому кварталу. И вдруг видит – мальчик маленький, лет четырех, вылез на балкон, стоит, держится за решетку, увидел его, глаза у него открылись, и он говорит: «Человек, ты кто?» А Илья ему говорит: «Ильяхо». Ну, он действительно Илья. И тот повис на решетке с открытым ртом, вот с такими глазами. На еврейскую же Пасху спрашивают: «Где Илья?» И вот он увидел этого самого Илью.
А у отца Ильи, уже когда он был священником и на Пасху служил у Гроба Господня, было такое приключение. Совершенно пустынно, четыре часа утра: с бородой, с длинными волосами он идет по этому еврейскому кварталу. И вдруг видит – мальчик маленький, лет четырех, вылез на балкон, стоит, держится за решетку, увидел его, глаза у него открылись, и он говорит: «Человек, ты кто?» А Илья ему говорит: «Ильяхо». Ну, он действительно Илья. И тот повис на решетке с открытым ртом, вот с такими глазами. На еврейскую же Пасху спрашивают: «Где Илья?» И вот он увидел этого самого Илью.
Новая жизнь
Отец Илья с помощью будущего зятя Кирилла Михайловича Великанова поехал в Париж, там прошел краткосрочный курс Свято-Сергиевского института, сдал все экзамены и был рукоположен. Прослужил около года в замечательном женском монастыре в Бюсси. Потом вернулся в Израиль, и началась новая жизнь.

– Вот это отец Илья, рукоположенный, вернулся в Израиль и сидит в натуральном виде. 1980 год. Три года он прослужил, в 1983-м мы уехали во Францию. За эти три года много всякого удивительного случилось, – М.Шмаина
Но было очень двусмысленное положение, потому что нам было запрещено говорить о нашем христианстве, надо было делать из него тайну. А я уже знала, что евреи не могут есть за одним столом с христианами, поэтому я не могла ответить ни на одно приглашение — не буду же подкладывать людям свинью. Конечно, большинству, если бы я сказала, что христианка, на это было бы наплевать, но ведь я не буду спрашивать, как он — блюдет закон или не блюдет.
Но потом постепенно у меня стали появляться и церковные друзья. Например, приятельница из монастыря на Масличной горе. Она была из первой эмиграции, приехала из Франции. Ее отец – священник Чертков, фамилия известная, его предок – друг Толстого. Марина Черткова была сумасбродной, очень красивой девушкой, которую папаша именно за строптивость отправил девочкой в монастырь в Гефсимании. И она все время металась. То она хотела уйти из монастыря, ушла, жила в городе, ходила в университет, учила иврит, потом опять ушла в монастырь. Очень хорошая.
Она приходила ко мне во всем своем монашеском облачении. Можете себе представить? Народ уже начал что-то понимать. А потом, у нас же были сторожа арабы-христиане, не только мусульмане. В какой-то момент ко мне подошел один из сторожей и говорит: «Мириам, правда, что ты христианка?» Я говорю: «Правда». – «А ну перекрестись». Я перекрестилась. И у меня начались с ними особые отношения. Например, показали мне, где растет мята. Они все целыми днями пьют мятный чай, это очень помогает от жары.
Но потом постепенно у меня стали появляться и церковные друзья. Например, приятельница из монастыря на Масличной горе. Она была из первой эмиграции, приехала из Франции. Ее отец – священник Чертков, фамилия известная, его предок – друг Толстого. Марина Черткова была сумасбродной, очень красивой девушкой, которую папаша именно за строптивость отправил девочкой в монастырь в Гефсимании. И она все время металась. То она хотела уйти из монастыря, ушла, жила в городе, ходила в университет, учила иврит, потом опять ушла в монастырь. Очень хорошая.
Она приходила ко мне во всем своем монашеском облачении. Можете себе представить? Народ уже начал что-то понимать. А потом, у нас же были сторожа арабы-христиане, не только мусульмане. В какой-то момент ко мне подошел один из сторожей и говорит: «Мириам, правда, что ты христианка?» Я говорю: «Правда». – «А ну перекрестись». Я перекрестилась. И у меня начались с ними особые отношения. Например, показали мне, где растет мята. Они все целыми днями пьют мятный чай, это очень помогает от жары.

– Это я устраивала детям Масленицу
в Израиле, – М.Шмаина
в Израиле, – М.Шмаина
С Рахмани, главным куратором музея, где я работала, у меня вышла такая история. Как-то сижу, читаю книжку, он подходит ко мне и говорит очень строго: «Мириам, зайди, пожалуйста, ко мне в кабинет». Думаю: что такое, к начальству вызвали. Вхожу – роскошный кабинет, стол, наверху какая-то мозаичная надпись, торжественные латинские слова. «Садитесь, пожалуйста…» Я сажусь. Он кладет руки на стол и говорит: «Так где был ваш Христос, когда наших детей жгли в газовых камерах?» Представляете, это на работе, после всей конспирации, всех мужниных указаний?!
Я стала напряженно думать, а потом говорю: «Я думаю, что Он был с ними в печах, горел вместе с ними».
И он как-то смутился, наклонил голову, встал, проводил меня почтительно из кабинета. Больше со мной на эту тему не разговаривал.
Я стала напряженно думать, а потом говорю: «Я думаю, что Он был с ними в печах, горел вместе с ними».
И он как-то смутился, наклонил голову, встал, проводил меня почтительно из кабинета. Больше со мной на эту тему не разговаривал.
А через некоторое время принес мне кусок мраморной плиты от одной из первых в Палестине церквей, IV век нашей эры. На этом обломке был кусок креста, и ветка смоковницы, и лань – шея и головка которой тянется губами к плоду, к смокве. Изумительной красоты, белый с голубоватыми прожилками мрамор. Он небрежно поставил мне обломок на стол и говорит: «Видишь, его надо помыть. Ты сможешь?». Когда он пришел в следующий раз, я говорю: «Вот, забирай, видишь, какая красота, он чистенький». Рахмани посмотрел на меня и говорит: «Пусть он у тебя тут стоит пока». Так я на него безнаказанно любовалась.

– Это я в музее с израильским реставратором Моше Гофманом, моим другом, который меня учил реставрации, – М.Шмаина
Дело до Бога
Постепенно мы начали ходить в церковь. Сначала пробовали ходить в Греческую Патриархию. Там нам очень не понравилось, потому что ничего не понятно и быстро служат. А потом все-таки, хоть наш батюшка и не благословлял, мы стали ходить в Зарубежную Церковь, потому что там все было привычно, понятно. Еще католики-доминиканцы устроили общину и церковь, написали специально службу, как у первых христиан. И к ним мы тоже ходили, но не причащались.
Потом уже ходили в Зарубежную к отцу Георгию Граббе, хотя у него было многое нехорошо. Например, висело объявление, что прихожанам церкви Марии Магдалины запрещается любое, даже бытовое общение с Московской Православной Церковью. Мы увидели, постояли и ушли.
А в церковь Московской Патриархии не могли ходить, потому что она была советская — это было все равно что ходить к шпионам. Тем не менее, ходили, причащались и как-то жили.
Потом уже ходили в Зарубежную к отцу Георгию Граббе, хотя у него было многое нехорошо. Например, висело объявление, что прихожанам церкви Марии Магдалины запрещается любое, даже бытовое общение с Московской Православной Церковью. Мы увидели, постояли и ушли.
А в церковь Московской Патриархии не могли ходить, потому что она была советская — это было все равно что ходить к шпионам. Тем не менее, ходили, причащались и как-то жили.

– Это отец Илья попал в рекламный буклет. Тут стоят все греческие попы, а тот, что без клобука, – мой супруг, – М.Шмаина
Там была очень интересная христианская жизнь, потому что мы познакомились с настоящим экуменизмом: все христиане понимали, что значит быть христианином. Они были как бы вне общества, и для них уже не играло большой роли, кто в какую юрисдикцию входит. Еще до того, как отец Илья стал священником, собирались каждую субботу люди, с которыми мы подружились.
Был бывший католик Пабло, был лютеранский пастор Иоханнан. Приходил очень смешной американский еврей, очень восторженный, шумный. Он был баптист, его группа называлась «Евреи за Иисуса». Они соблюдали иудейский закон, и при этом все молитвы были обращены ко Христу. Потом были два монаха-доминиканца, по своему происхождению полные французы. Один, особо замечательный, приехал в Израиль в юности, пошел работать на кирпичный завод – самую тяжелую физическую работу. Работал там с арабами, и те его почитали как святого. Они приносили ему детей, он должен был их лечить наложением рук. Они говорили: мы тебя понимаем, но ты положи руку на голову ребенку, и он выздоровеет.
Еще был православный монах отец Иосаф – с усами, с бородой, красивый, крепкий мужик, не старый. Он был эмигрант, они с матерью попали в Аргентину, и там хорошо прижились. Мать дала ему возможность получить высшее образование, он окончил какой-то технический институт, стал инженером. Хорошо учился, его приняли в какую-то шикарную фирму. Перед тем, как начинать работать, он попросил месяц отпуска и поехал на Святую Землю. Приехал в монастырь Святого Саввы – самый старый православный монастырь в мире. Там встретил старца, и уже никуда не поехал, остался при нем.
Я их всех кормила-поила, они сидели и беседовали на богословские и прочие темы, и всем было интересно.
Был бывший католик Пабло, был лютеранский пастор Иоханнан. Приходил очень смешной американский еврей, очень восторженный, шумный. Он был баптист, его группа называлась «Евреи за Иисуса». Они соблюдали иудейский закон, и при этом все молитвы были обращены ко Христу. Потом были два монаха-доминиканца, по своему происхождению полные французы. Один, особо замечательный, приехал в Израиль в юности, пошел работать на кирпичный завод – самую тяжелую физическую работу. Работал там с арабами, и те его почитали как святого. Они приносили ему детей, он должен был их лечить наложением рук. Они говорили: мы тебя понимаем, но ты положи руку на голову ребенку, и он выздоровеет.
Еще был православный монах отец Иосаф – с усами, с бородой, красивый, крепкий мужик, не старый. Он был эмигрант, они с матерью попали в Аргентину, и там хорошо прижились. Мать дала ему возможность получить высшее образование, он окончил какой-то технический институт, стал инженером. Хорошо учился, его приняли в какую-то шикарную фирму. Перед тем, как начинать работать, он попросил месяц отпуска и поехал на Святую Землю. Приехал в монастырь Святого Саввы – самый старый православный монастырь в мире. Там встретил старца, и уже никуда не поехал, остался при нем.
Я их всех кормила-поила, они сидели и беседовали на богословские и прочие темы, и всем было интересно.
Вообще в Израиле очень большое равнодушие к религии — в массе, но есть некоторое количество верующих, очень агрессивных. И когда мы сталкивались с такими, когда попадали в религиозный квартал, видели, что даже их ненависть ко Христу была живая.
Ты как бы сразу попадаешь в те времена, когда Он ходил по этой земле. Потому что они к Нему относятся как к живому человеку, который изменил.
Ты как бы сразу попадаешь в те времена, когда Он ходил по этой земле. Потому что они к Нему относятся как к живому человеку, который изменил.
Помню, излагала это одному нашему другу, и он сказал: «Я архитектор, и могу тебе сказать с уверенностью: это просто у вас такое состояние от облучения. Из всех столиц мира самое сильное солнечное облучение в Иерусалиме, потому что он высоко в горах. Нет никакой промышленности, необычайно чистый воздух. Вот, вы все облучаетесь, поэтому вам есть дело до Бога».
«Пусть вас будет 50 тысяч!»
Молодежь к нам ходила. Илья еще сам тогда крестить не мог, водил к знакомым греческим монахам, которые боялись, но иногда кое-кого все-таки крестили. И потом он стал потихоньку делать то, что может мирянин. Мы служили вечерние службы в нашей спальне, закрывали дверь, повесили иконы. И приходили те, кто были уже православные, слушали. Поползли, конечно, разговоры и слухи.
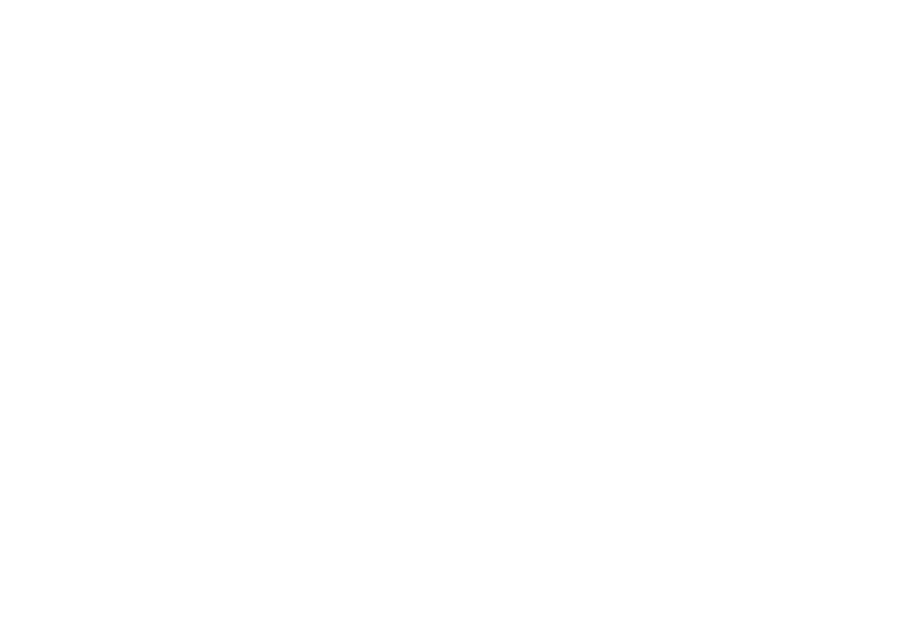
Отец Илья у Мамврийского дуба со своим приятелем, греческим монахом
Когда Илья уже священником вернулся в Иерусалим, и у нас началась настоящая церковная жизнь, постепенно сколачивалась маленькая Церковь. В какой-то момент Илья стал служить в Греческой Патриархии, туда ему из Франции дали отпускную грамоту. Он представился греческому патриарху, а вскоре тот скончался, и пришел новый, который в первый раз был не грек, а араб. Это было очень ново. Он был громадного роста мужчина, очень решительного характера. И отец Илья собрал нас всех и пошел к нему выяснять насчет службы.
Новый патриарх Диодор наводил порядки. У этих греческих монахов была большая распущенность, за километр несло жареной бараниной, все они курили сигареты. Он решил их всех подтянуть, устраивал всякие строгости.
И вот мы пришли, сильно трепеща, расселись, и он произнес короткую торжественную речь, как он рад, как приветствует нас, как это прекрасно, что новые люди создают новое. И отец Илья в ответ тоже произнес очень красивую речь, благодарственную, с объяснением, чего он хочет и как хочет. И тогда Диодор ему сказал: «А сколько вас всего человек?» Нас было всего около 20, не больше. Но Илья набрал в легкие воздуха и сказал: «Человек 50». Диодор встал во весь свой великолепный рост, раскинул руки и сказал: «Пусть вас будет 50 тысяч!». И после этого уже пошел более-менее деловой разговор.
Диодор обратился к помощнику отцу Тимофею и говорит: «Проведи их по патриархии, пусть выберут себе храм, какой хотят для службы». И мы пошли. Погуляли. Там старый город дивной красоты. Вдруг я вижу – очень красивая каменная стена, врата древние и на них Омега, вырезанная из серого камня. Мы туда зашли, а там внутри маленькая древняя церковь. Илья отцу Тимофею говорит: «Вот эта». – «Эта? Пожалуйста». Взял ключ, отпер храм. «Только, – говорит, – в ней уже Бог знает сколько лет никто не служит». Открыли церковь. Окна все выбиты, грязь, сено, все в птичьем помете. В общем, страшное зрелище, но церковь совершенно целая, иконы висят, все на месте. Тимофей отцепил большой ключ, вручил его мне, даже не отцу Илье, а мне и говорит: «Служите, располагайтесь». И ушел.
Новый патриарх Диодор наводил порядки. У этих греческих монахов была большая распущенность, за километр несло жареной бараниной, все они курили сигареты. Он решил их всех подтянуть, устраивал всякие строгости.
И вот мы пришли, сильно трепеща, расселись, и он произнес короткую торжественную речь, как он рад, как приветствует нас, как это прекрасно, что новые люди создают новое. И отец Илья в ответ тоже произнес очень красивую речь, благодарственную, с объяснением, чего он хочет и как хочет. И тогда Диодор ему сказал: «А сколько вас всего человек?» Нас было всего около 20, не больше. Но Илья набрал в легкие воздуха и сказал: «Человек 50». Диодор встал во весь свой великолепный рост, раскинул руки и сказал: «Пусть вас будет 50 тысяч!». И после этого уже пошел более-менее деловой разговор.
Диодор обратился к помощнику отцу Тимофею и говорит: «Проведи их по патриархии, пусть выберут себе храм, какой хотят для службы». И мы пошли. Погуляли. Там старый город дивной красоты. Вдруг я вижу – очень красивая каменная стена, врата древние и на них Омега, вырезанная из серого камня. Мы туда зашли, а там внутри маленькая древняя церковь. Илья отцу Тимофею говорит: «Вот эта». – «Эта? Пожалуйста». Взял ключ, отпер храм. «Только, – говорит, – в ней уже Бог знает сколько лет никто не служит». Открыли церковь. Окна все выбиты, грязь, сено, все в птичьем помете. В общем, страшное зрелище, но церковь совершенно целая, иконы висят, все на месте. Тимофей отцепил большой ключ, вручил его мне, даже не отцу Илье, а мне и говорит: «Служите, располагайтесь». И ушел.
Дар Елизаветы Федоровны
Мы все, бабы и мужики, пошли с тряпками и моющими средствами и начали убираться. Я мою икону Божьей Матери, прекрасную Владимирскую, с золоченой ризой. Внизу маленькая табличка, и на ней красивым почерком вырезано: «Дар Великой княгини Елизаветы Федоровны». В это время из алтаря вылезает отец Илья, который там убирался, и держит в руках потир, на дне написано: «Дар Великой княгини Елизаветы Федоровны».
Оказалось, что это был ее любимый храм, и когда она приезжала на Святую Землю, всегда там молилась и каждый раз что-то привозила: иконы, покровы. А Елизавету Федоровну тогда только недавно причислили к лику святых.
Оказалось, что это был ее любимый храм, и когда она приезжала на Святую Землю, всегда там молилась и каждый раз что-то привозила: иконы, покровы. А Елизавету Федоровну тогда только недавно причислили к лику святых.
Начальства над нами никакого, проверок никаких – что хочешь, то и делай. И мы создавали церковь на пустом месте сами. Служить могли только в субботу, остальные дни рабочие. Отец Илья работал в институте у Вейцмана, я — в музее, и дети учились или работали. В субботу мы вставали ни свет ни заря, надевали на плечи рюкзаки и шли в храм. Книжки оставлять там мы боялись, потому что они были большой ценностью. Нам внезапно много церковных книг прислал архиепископ Иоанн (Шаховской).
Хор у нас был: отец Илья сам пел, Танечка с мужем Валерой, а я вместо псаломщицы. Дома Илья меня долго натаскивал, закладывал книжки – где что, чтобы не перепутала. Илья вообще очень неторопливый, въедливый священник, а мы же мало что знали. Стали устраивать как бы агапы после службы: дамы приносили пироги, чай в термосах. Один раз явился отец Тимофей и говорит: «Слушайте, можно я у вас погляжу, что вы делаете столько времени в храме?» У них Литургия занимает час, причем они никогда проскомидию не служат. Как из пулемета. А мы четыре часа, пять часов там торчим.
Хор у нас был: отец Илья сам пел, Танечка с мужем Валерой, а я вместо псаломщицы. Дома Илья меня долго натаскивал, закладывал книжки – где что, чтобы не перепутала. Илья вообще очень неторопливый, въедливый священник, а мы же мало что знали. Стали устраивать как бы агапы после службы: дамы приносили пироги, чай в термосах. Один раз явился отец Тимофей и говорит: «Слушайте, можно я у вас погляжу, что вы делаете столько времени в храме?» У них Литургия занимает час, причем они никогда проскомидию не служат. Как из пулемета. А мы четыре часа, пять часов там торчим.

– Это единственная фотография, сделанная очень хорошим профессиональным фотографом. Он оператор, наш дорогой Ленечка Хромченко, – М.Шмаина
Потом отец Илья втихаря начал крестить. Ему выдали замечательную справку, что вот такой-то, отец Илья, такой-то патриархии, ему разрешается крестить одного еврея. Какого? Ни фамилии, ни имени не указали, когда справку давали. Но, в общем, все это уже было хождением по острию ножа.
В один прекрасный день отца Илью вызвали в «Шинбет», это, так скажем, КГБ израильское. Все страшно взволновались! К нам побежали знакомые и стали говорить, что «вы не бойтесь, это вам не наше КГБ, здесь можно вообще не прийти, не захотите – не пойдете». Илья решил, что зачем же он не пойдет — даже интересно. И пошел. Пришел довольный. Говорит: «Очень приятный, явно умный молодой человек сказал, что «вы, конечно, понимаете, что мы все про вас знаем, и масштабы вашей деятельности таковы, что нас это абсолютно не волнует. Мы знаем, что вы люди порядочные, никакого отношения к разной подпольной деятельности не имеете. Но, понимаете, мы получили огромное, непередаваемое количество доносов. Доносы пишут исключительно ваши соотечественники. Они очень разнообразны, интересны, мы их все изучили, и поэтому я вас вызвал – мы обязаны отреагировать». Он не задал Илье ни одного вопроса и сказал: «У нас к вам никаких претензий нет, живите спокойно, но просто имейте в виду, что не все из тех, кто к вам ходит, к вам хорошо относятся».
В один прекрасный день отца Илью вызвали в «Шинбет», это, так скажем, КГБ израильское. Все страшно взволновались! К нам побежали знакомые и стали говорить, что «вы не бойтесь, это вам не наше КГБ, здесь можно вообще не прийти, не захотите – не пойдете». Илья решил, что зачем же он не пойдет — даже интересно. И пошел. Пришел довольный. Говорит: «Очень приятный, явно умный молодой человек сказал, что «вы, конечно, понимаете, что мы все про вас знаем, и масштабы вашей деятельности таковы, что нас это абсолютно не волнует. Мы знаем, что вы люди порядочные, никакого отношения к разной подпольной деятельности не имеете. Но, понимаете, мы получили огромное, непередаваемое количество доносов. Доносы пишут исключительно ваши соотечественники. Они очень разнообразны, интересны, мы их все изучили, и поэтому я вас вызвал – мы обязаны отреагировать». Он не задал Илье ни одного вопроса и сказал: «У нас к вам никаких претензий нет, живите спокойно, но просто имейте в виду, что не все из тех, кто к вам ходит, к вам хорошо относятся».
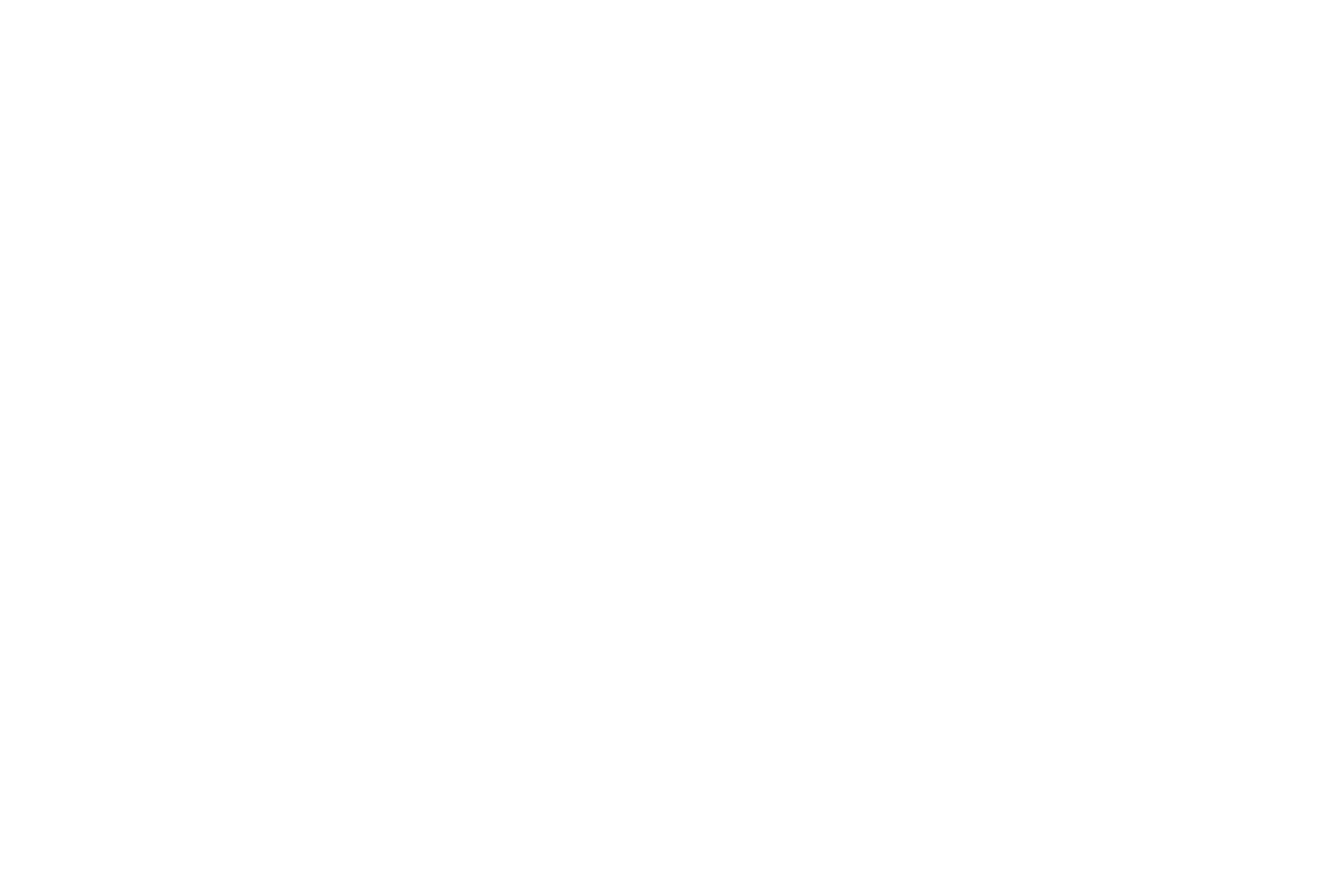
Как-то, когда Илья на первых порах еще служил один, и у него не было хорошей практики с требами, он крестил довольно большую компанию. Мы поехали в город Иерихон, там был Русский сад, принадлежавший Русской Православной Церкви Заграницей, совершенно заброшенный. Купели не было. Ребята нашли в саду какую-то бочку из-под бензина, долго её мыли, потом наполнили водой. А к нам из Парижа приехал сын настоятеля Аньерского храма отца Александра, Яша Ребиндер. Молодой человек учился в Свято-Сергиевском институте и замечательно пел, он стоял вместо клироса, а Илья крестил. Всем сшили белые рубахи, все честь честью. Илья был так взволнован… Когда всех окунул, они пошли вокруг купели со свечками и с пением, и отец Илья так вдохновился, что раз их обвел, второй раз, третий раз, четвертый… И тут Яша наш с клироса: «Довольно, отец Илья, довольно».
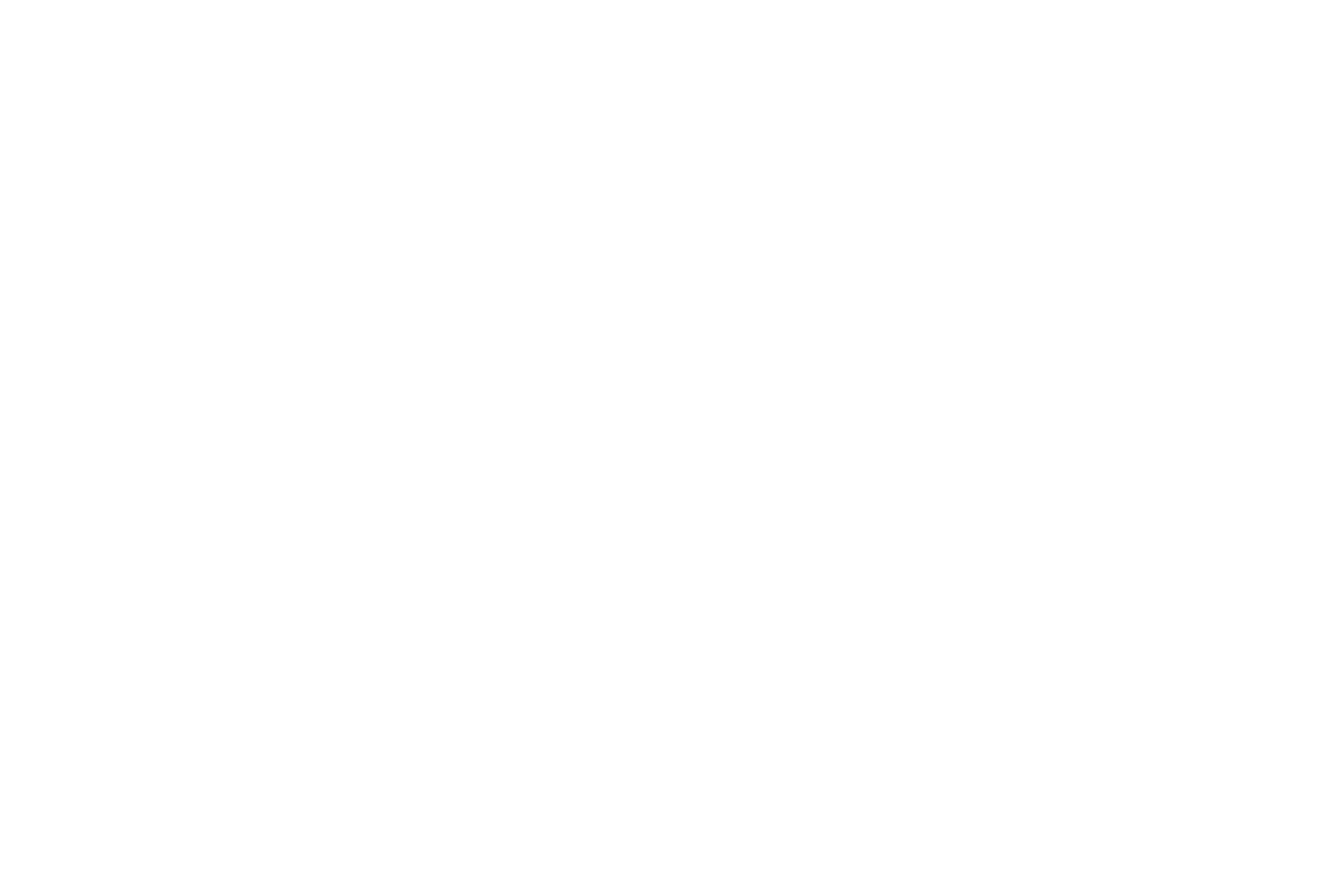
Познакомились мы со знаменитым отцом Даниэлем Руфайзеном, о котором написан роман Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик». Он приехал в Израиль после войны, уже был герой, потому что спас массу еврейских детей. Он потребовал, чтобы ему дали права гражданина, как всем. А ему сказали: «Нет, вы, отец Даниэль, друг еврейского народа, но вы не еврей, потому что вы крестились». И он затеял суд. Ему было это важно по политическим соображениям, не только о себе, естественно, хлопотал. И отец Даниэль дошел до Верховного Суда, который вынес решение, что, поскольку он служит чужим богам, то он не иудей, поэтому гражданином Израиля быть не может.
Понимаете, там очень сложные взаимоотношения между Церковью и государством. Государство светское, демократическое, постоянные выборы, огромное количество евреев из Африки, сефардов так называемых, и все верующие. Без их голосов никто не может получить большинства. И постоянно такая игра. Когда мы познакомились с отцом Даниэлем, он гордо сказал отцу Илье: «Я горжусь тем, что за время жизни в Израиле не крестил ни одного человека». Поскольку евреи спасаются законом, есть такая фраза: им можно не креститься, они спасутся по закону. Оказалось, что у нас на этот вопрос разные взгляды.
Понимаете, там очень сложные взаимоотношения между Церковью и государством. Государство светское, демократическое, постоянные выборы, огромное количество евреев из Африки, сефардов так называемых, и все верующие. Без их голосов никто не может получить большинства. И постоянно такая игра. Когда мы познакомились с отцом Даниэлем, он гордо сказал отцу Илье: «Я горжусь тем, что за время жизни в Израиле не крестил ни одного человека». Поскольку евреи спасаются законом, есть такая фраза: им можно не креститься, они спасутся по закону. Оказалось, что у нас на этот вопрос разные взгляды.

– Это наша последняя совместная фотография, – М.Шмаина
У нас был очень хороший друг, замечательный человек из Греческой Патриархии, отец Аристарх. Он был родом с Крита, из бедной крестьянской семьи. Очень болезненный и хилый горбун. И родители его чуть ли не в шестилетнем возрасте, поскольку он к крестьянской работе не был годен, отдали в Иерусалим, в греческий монастырь. Там он окончил семинарию, оказался очень умным, способным мальчиком, окончил Иерусалимский университет блестяще, и его назначили библиотекарем в Греческой Патриархии. Он преподавал там всякие науки, поскольку там немного было образованных.
Когда мы уехали во Францию, более-менее внезапно, все наши оставшиеся подопечные стали ходить к отцу Аристарху. И он их окормлял. Постепенно большинство тоже перебралось в Европу, в Америку. Не потому что они были христиане, а просто народ вообще потихоньку утекал, больше, чем оставался.
Кто в нашей церкви теперь? Наверное, все-таки кто-то служит.
Когда мы уехали во Францию, более-менее внезапно, все наши оставшиеся подопечные стали ходить к отцу Аристарху. И он их окормлял. Постепенно большинство тоже перебралось в Европу, в Америку. Не потому что они были христиане, а просто народ вообще потихоньку утекал, больше, чем оставался.
Кто в нашей церкви теперь? Наверное, все-таки кто-то служит.
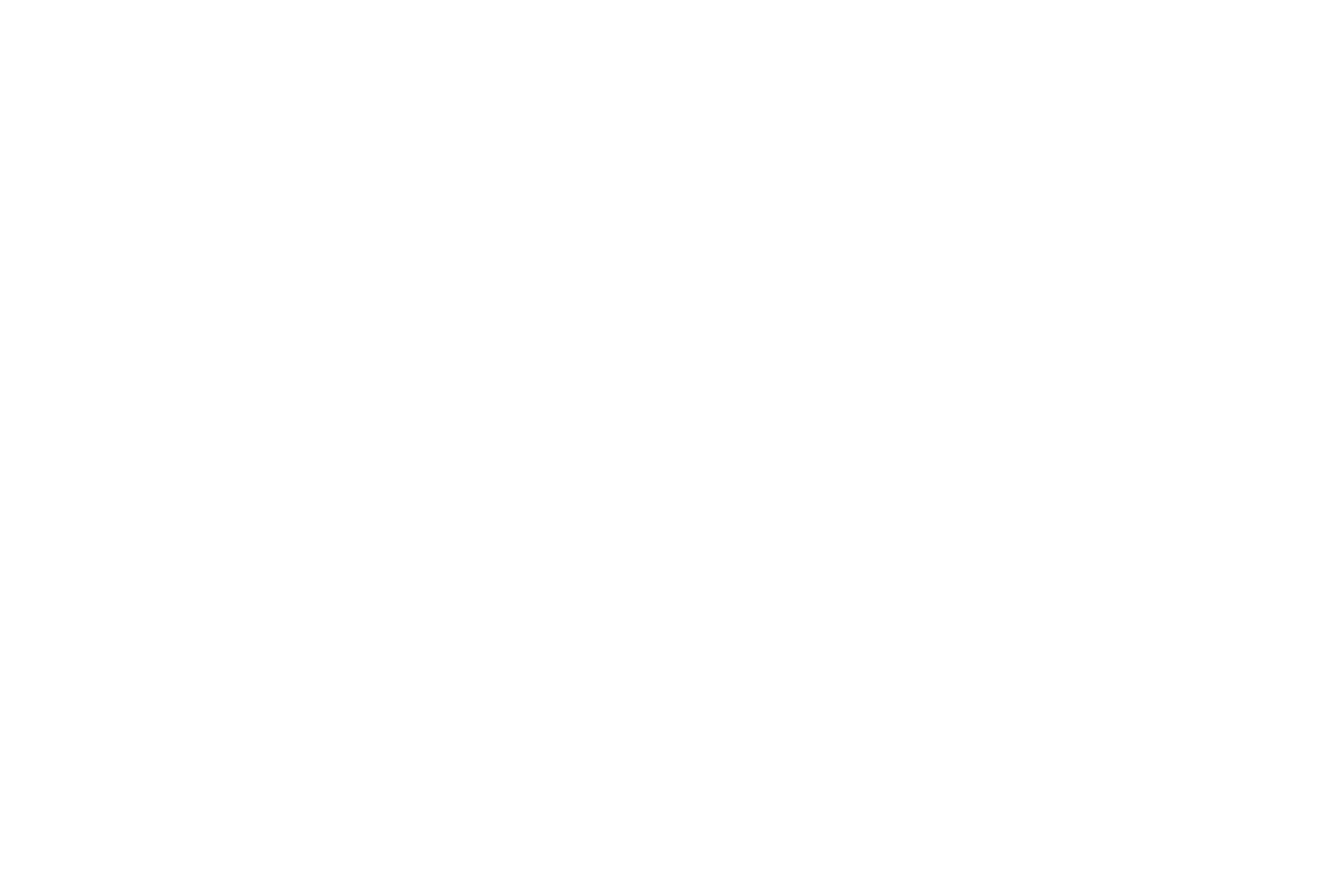
Таруса, лето 2015
Текст Амелина Тамара
Видео Игорь Давыдов
Монтаж видео Виктор Аромштам
Фото Анна Гальперина
Видео Игорь Давыдов
Монтаж видео Виктор Аромштам
Фото Анна Гальперина