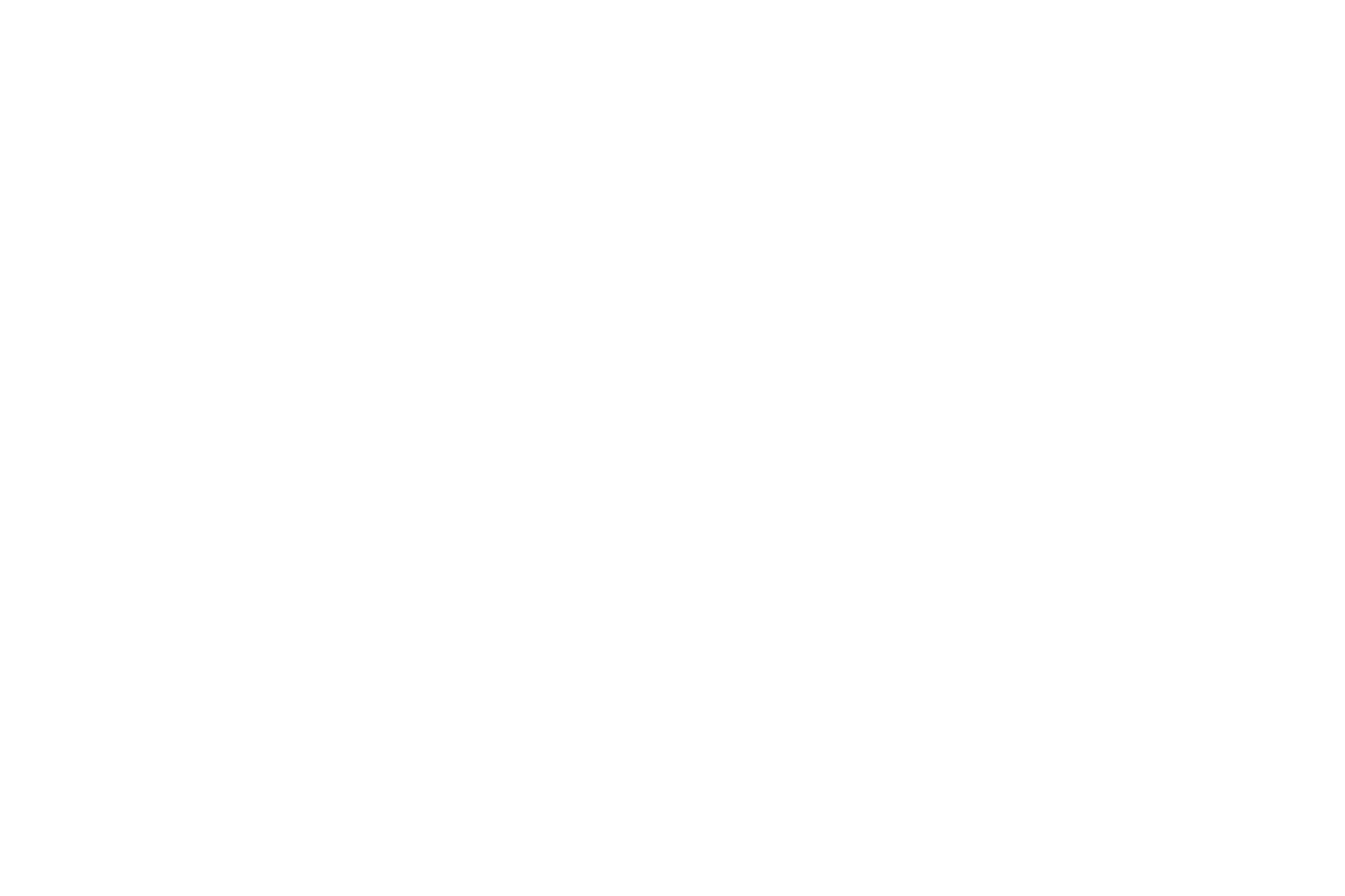«Никогда не видела ни одной лысой беременной»
Катерина Гордеева
Забеременеть – и узнать, что у тебя рак. Начать химиотерапию на шестом месяце беременности. Родить здорового ребенка. Победить болезнь. Надежда Кузнецова, бывший программный менеджер школы «Сколково», соучредитель «Игр победителей» – олимпиады для детей, победивших рак, – впервые рассказывает Катерине Гордеевой свою невероятную историю.
Меня не мотивируют трагедии
– Что должно произойти в жизни здоровой успешной молодой женщины, чтобы она вдруг оказалась в больнице, где дети болеют раком?
– В том-то и дело – ничего не происходило: я работала в офисе и мне было катастрофически скучно. Я искала способ убежать от этого однообразия: преподавала русский язык детям-беженцам, пробовала помогать детям-сиротам... А потом прочитала пост [директора фонда «Подари жизнь» с 2011 по 2018 гг. Екатерины Чистяковой] в ЖЖ – есть детская больница, где лежат дети из разных городов, у них в Москве нет друзей, им ужасно скучно. Так я пришла в РДКБ первый раз.
– Помнишь свои чувства?
– Я себя ощущала слоном в посудной лавке: у людей очень тяжелая ситуация, я им чужая, могу чего-нибудь ляпнуть, что-то не то сделать. Очень волновалась. Но пообещала там одному мальчику, что приду через неделю. Утром в этот день он сел в коридоре и стал смотреть на дверь. Я пришла в обед, а он, оказывается, все это время сидел перед дверью и ждал меня. И всё, понимаешь? Мне сразу стало понятно: пусть я мало что умею – не рисую, не делаю поделки какие-то – но могу прийти в больницу, пить чай с мамой этого мальчика, читать с ним книжки. И ему не будет так скучно. Человеку не должно быть адски скучно, когда от его настроения фактически зависит его жизнь.
– В том-то и дело – ничего не происходило: я работала в офисе и мне было катастрофически скучно. Я искала способ убежать от этого однообразия: преподавала русский язык детям-беженцам, пробовала помогать детям-сиротам... А потом прочитала пост [директора фонда «Подари жизнь» с 2011 по 2018 гг. Екатерины Чистяковой] в ЖЖ – есть детская больница, где лежат дети из разных городов, у них в Москве нет друзей, им ужасно скучно. Так я пришла в РДКБ первый раз.
– Помнишь свои чувства?
– Я себя ощущала слоном в посудной лавке: у людей очень тяжелая ситуация, я им чужая, могу чего-нибудь ляпнуть, что-то не то сделать. Очень волновалась. Но пообещала там одному мальчику, что приду через неделю. Утром в этот день он сел в коридоре и стал смотреть на дверь. Я пришла в обед, а он, оказывается, все это время сидел перед дверью и ждал меня. И всё, понимаешь? Мне сразу стало понятно: пусть я мало что умею – не рисую, не делаю поделки какие-то – но могу прийти в больницу, пить чай с мамой этого мальчика, читать с ним книжки. И ему не будет так скучно. Человеку не должно быть адски скучно, когда от его настроения фактически зависит его жизнь.
– Ты сразу поняла, что, помимо жизни, в больнице есть и смерть?
– Когда ты только собираешься волонтерить в больнице, то изначально ведь себя настраиваешь на какую-то трагическую ситуацию. Ты ожидаешь, что там сплошная трагедия и всем очень грустно. Но вот ты приходишь и попадаешь на подчеркнуто веселых мам [детей, которые болеют]. У них работа – быть веселыми, улыбаться, готовить вкусную еду и держать лицо. И первые месяц-два, если ты, как я, по счастливому стечению обстоятельств не сталкиваешься со смертью ребенка быстро, тебе кажется, что все совершенно прекрасно. Нормально. Никакой трагедии нет.
Лично я начала что-то понимать где-то через месяц, когда меня завела в уголок одна из самых веселых мам отделения. Обняла меня и стала молча у меня на плече плакать. И вот в этот момент я поняла, что все гораздо серьезнее и сложнее, чем кажется на первый взгляд.
– Когда ты только собираешься волонтерить в больнице, то изначально ведь себя настраиваешь на какую-то трагическую ситуацию. Ты ожидаешь, что там сплошная трагедия и всем очень грустно. Но вот ты приходишь и попадаешь на подчеркнуто веселых мам [детей, которые болеют]. У них работа – быть веселыми, улыбаться, готовить вкусную еду и держать лицо. И первые месяц-два, если ты, как я, по счастливому стечению обстоятельств не сталкиваешься со смертью ребенка быстро, тебе кажется, что все совершенно прекрасно. Нормально. Никакой трагедии нет.
Лично я начала что-то понимать где-то через месяц, когда меня завела в уголок одна из самых веселых мам отделения. Обняла меня и стала молча у меня на плече плакать. И вот в этот момент я поняла, что все гораздо серьезнее и сложнее, чем кажется на первый взгляд.

– И ты не сбежала?
– Уже поздно было бежать. У меня в отделении уже появились друзья – дети, которые меня ждали. Но был момент, когда моя мама мне говорила: «Что ты делаешь? Зачем ты туда пошла? Ты же веселая, ты не можешь быть там, где смерть».
– Что ты отвечала?
– Да ничего особо не отвечала. Потребовалось время, чтобы они меня поняли. Я уже не могла уйти никуда из больницы. Там были все отношения, вся жизнь.
– И уже через несколько месяцев ты принялась делать первые «Игры победителей» с фондом «Подари жизнь».
– Это стечение обстоятельств – я знаю польский язык, поэтому меня отправили на Онкоолимпиаду в Польшу с командой наших больничных детей, которых опекал фонд.
– Онкоолимпиада – это что?
– Это как обычная олимпиада, международные спортивные состязания, но путевка на такую олимпиаду очень дорогая – перенесенный рак. И вот я там, в Польше, наблюдая за тем, как дети бегут, прыгают и ныряют, вдруг поняла: мы же ничего этого не видели! Мы все время были внутри больницы и сталкивались с самым грустным. Но вот он, кусок хорошего, которое можно подсветить – это ведь тоже происходит, по правде.
Мысль, что про детский рак можно говорить в позитивном ключе, просто порвала мне сознание. Я давно искала этот свет – было очень трудно существовать без позитива. Меня вообще не мотивирует трагедия.
– Это как?
– Вот, я знаю, что есть люди, которые помогают, чтобы было меньше ужаса, да? Я помогаю, чтобы было больше света. Так, наверное.
– Уже поздно было бежать. У меня в отделении уже появились друзья – дети, которые меня ждали. Но был момент, когда моя мама мне говорила: «Что ты делаешь? Зачем ты туда пошла? Ты же веселая, ты не можешь быть там, где смерть».
– Что ты отвечала?
– Да ничего особо не отвечала. Потребовалось время, чтобы они меня поняли. Я уже не могла уйти никуда из больницы. Там были все отношения, вся жизнь.
– И уже через несколько месяцев ты принялась делать первые «Игры победителей» с фондом «Подари жизнь».
– Это стечение обстоятельств – я знаю польский язык, поэтому меня отправили на Онкоолимпиаду в Польшу с командой наших больничных детей, которых опекал фонд.
– Онкоолимпиада – это что?
– Это как обычная олимпиада, международные спортивные состязания, но путевка на такую олимпиаду очень дорогая – перенесенный рак. И вот я там, в Польше, наблюдая за тем, как дети бегут, прыгают и ныряют, вдруг поняла: мы же ничего этого не видели! Мы все время были внутри больницы и сталкивались с самым грустным. Но вот он, кусок хорошего, которое можно подсветить – это ведь тоже происходит, по правде.
Мысль, что про детский рак можно говорить в позитивном ключе, просто порвала мне сознание. Я давно искала этот свет – было очень трудно существовать без позитива. Меня вообще не мотивирует трагедия.
– Это как?
– Вот, я знаю, что есть люди, которые помогают, чтобы было меньше ужаса, да? Я помогаю, чтобы было больше света. Так, наверное.
– То есть, по-твоему, волонтеры в больнице обычно не видят хорошего?
– Весь позитив – когда дети выписываются, возвращаются домой, создают семьи и живут дальше, – перекрывают прощания. Ведь дети же умирают. И эти прощания запоминаются больше.
– Я не была ни на одном прощании, так получилось. Возможно, я сделала это специально.
– А я была. Много. Просто, мне кажется, ты никогда заранее не знаешь, способен ты это выдержать или нет. Всегда первый раз показывает, способен ли ты… Есть люди, которые способны, есть – которые нет. Это всегда вопрос какой-то психофизиологии.
– Ты – способна?
– Оказалось, мне удается переключиться на помощь: обязательно нужно, чтобы рядом с родителями в ситуации смерти их ребенка был кто-то рядом. Да, это тяжело, есть какие-то детали, которые очень западают в память. Иногда случается так, что вдруг подряд в одном отделении происходит несколько детских похорон. Это трудно пережить. Знаешь, я в какой-то момент про себя почувствовала, что стала на этой почве токсичной.
– Токсичной?
– Да, именно токсичной. Потому что, разговаривая про больничное волонтерство с внешними людьми – друзьями, коллегами, знакомыми, я начала выдавать столько горечи, столько болезненных ситуаций, что я поняла: надо остановиться, всё, стоп.
– Что ты имеешь в виду?
– Просто заткнуться и поменьше разговаривать. Все переварить внутри себя и вернуться к людям в нормальном состоянии. «Игры победителей» для меня – это тоже возможность все переварить и переформулировать. У нас на Играх есть такой «вожатский флешмоб» – это танец волонтеров. Я его не могу смотреть без слез, потому что я знаю, что танцуют люди, прошедшие Хользунов переулок – там находится морг, где мы прощались с нашими ушедшими детьми. И для меня этот танец очень много значит: я вижу, что волонтеры танцуют для этих, ушедших детей, в каком-то смысле они танцуют про это – про горе, про боль, они вытанцовывают эту боль и вместе с живыми уже празднуют то, что получилось. Победу.
– Весь позитив – когда дети выписываются, возвращаются домой, создают семьи и живут дальше, – перекрывают прощания. Ведь дети же умирают. И эти прощания запоминаются больше.
– Я не была ни на одном прощании, так получилось. Возможно, я сделала это специально.
– А я была. Много. Просто, мне кажется, ты никогда заранее не знаешь, способен ты это выдержать или нет. Всегда первый раз показывает, способен ли ты… Есть люди, которые способны, есть – которые нет. Это всегда вопрос какой-то психофизиологии.
– Ты – способна?
– Оказалось, мне удается переключиться на помощь: обязательно нужно, чтобы рядом с родителями в ситуации смерти их ребенка был кто-то рядом. Да, это тяжело, есть какие-то детали, которые очень западают в память. Иногда случается так, что вдруг подряд в одном отделении происходит несколько детских похорон. Это трудно пережить. Знаешь, я в какой-то момент про себя почувствовала, что стала на этой почве токсичной.
– Токсичной?
– Да, именно токсичной. Потому что, разговаривая про больничное волонтерство с внешними людьми – друзьями, коллегами, знакомыми, я начала выдавать столько горечи, столько болезненных ситуаций, что я поняла: надо остановиться, всё, стоп.
– Что ты имеешь в виду?
– Просто заткнуться и поменьше разговаривать. Все переварить внутри себя и вернуться к людям в нормальном состоянии. «Игры победителей» для меня – это тоже возможность все переварить и переформулировать. У нас на Играх есть такой «вожатский флешмоб» – это танец волонтеров. Я его не могу смотреть без слез, потому что я знаю, что танцуют люди, прошедшие Хользунов переулок – там находится морг, где мы прощались с нашими ушедшими детьми. И для меня этот танец очень много значит: я вижу, что волонтеры танцуют для этих, ушедших детей, в каком-то смысле они танцуют про это – про горе, про боль, они вытанцовывают эту боль и вместе с живыми уже празднуют то, что получилось. Победу.
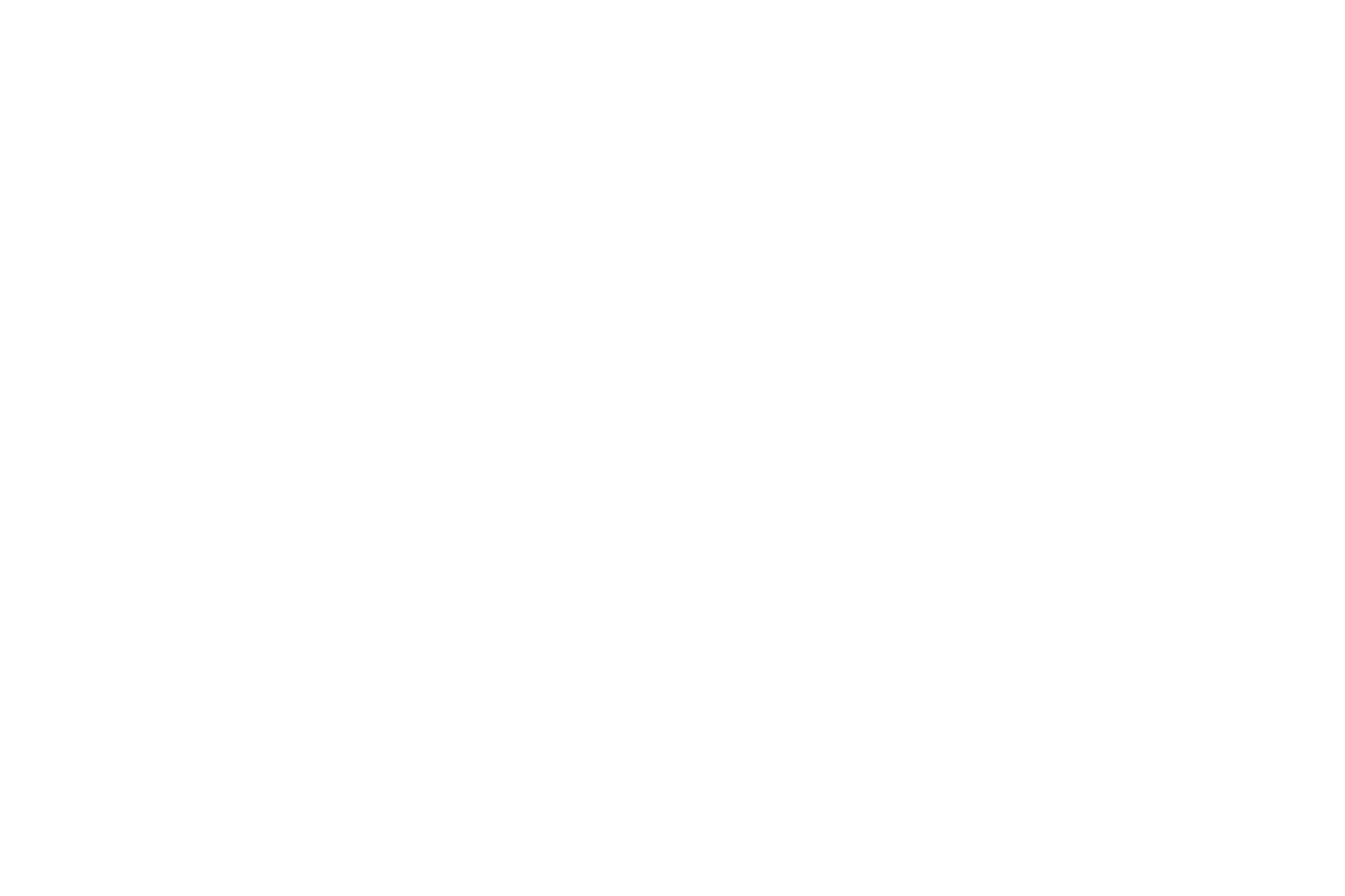
У нас на соревнованиях все по-честному
– Значит ли это, что «Игры победителей» задумывались не только для детей, которые болеют, но и для взрослых, которые их окружают: врачей, родителей, волонтеров, жертвователей фондов, – чтобы они увидели жизнь, которая случается у детей после больницы?
– Это была первая идея, за которую мы уцепились. Первый оргкомитет Игр – волонтеры онкоотделения РДКБ. Мы специально выбирали такие виды спорта, чтобы ребенок мог участвовать сидя: пострелять из пневматической винтовки или поиграть в шахматы. Чтобы мог, еще не до конца оправившись после болезни, стать олимпийцем. Но теперь у нас уже есть дети, которые болели, когда им был год, а сейчас им пятнадцать, им можно давать нормальную нагрузку.
– Какая история про Игры для тебя самая впечатляющая?
– Лужники, 2015 год, пятые Игры. Церемония награждения, я стою рядом с трибуной и вижу ее сзади. Награждают футбол, и команды очень многочисленные, поэтому места на пьедестале мало. И с одной из команд выходит мальчик лет девяти, который не очень хорошо ходит, он прихрамывает. И с ним выходит мама. И она понимает, что он может свалиться с этой трибуны, потому что они все толкаются, им вешают медали. И она забирается на трибуну вместе с ним, у него за спиной встает на колени, и он опирается на нее… Знаешь, для меня это абсолютный символ того, что происходит с этими мамами. Она добивается того, чтобы он стоял на трибуне. Ее не будет видно, но она на коленях стоит за ним, а он – опирается на нее, пока ему на шею вешают медаль. Вот это для меня Игры.
– Это была первая идея, за которую мы уцепились. Первый оргкомитет Игр – волонтеры онкоотделения РДКБ. Мы специально выбирали такие виды спорта, чтобы ребенок мог участвовать сидя: пострелять из пневматической винтовки или поиграть в шахматы. Чтобы мог, еще не до конца оправившись после болезни, стать олимпийцем. Но теперь у нас уже есть дети, которые болели, когда им был год, а сейчас им пятнадцать, им можно давать нормальную нагрузку.
– Какая история про Игры для тебя самая впечатляющая?
– Лужники, 2015 год, пятые Игры. Церемония награждения, я стою рядом с трибуной и вижу ее сзади. Награждают футбол, и команды очень многочисленные, поэтому места на пьедестале мало. И с одной из команд выходит мальчик лет девяти, который не очень хорошо ходит, он прихрамывает. И с ним выходит мама. И она понимает, что он может свалиться с этой трибуны, потому что они все толкаются, им вешают медали. И она забирается на трибуну вместе с ним, у него за спиной встает на колени, и он опирается на нее… Знаешь, для меня это абсолютный символ того, что происходит с этими мамами. Она добивается того, чтобы он стоял на трибуне. Ее не будет видно, но она на коленях стоит за ним, а он – опирается на нее, пока ему на шею вешают медаль. Вот это для меня Игры.
– Как дети воспринимают Игры?
– Очень серьезно. Я знаю истории, когда, только заболев, кто-то узнавал про Игры, и участие в них было мотивацией поправиться. У нас был мальчик из Нижнего Новгорода, пловец, который чуть ли не с рождения мечтал о спортивной карьере. Когда он заболел, для него это было просто личной катастрофой. Но он с самого начала лечения знал про Игры, он готовился. И он выписался, приехал к нам, взял золото. И для него, для его семьи это очень много значило.
У нас была девочка из Венгрии, она с детства плавала и занималась балетом, а потом у нее случилась опухоль мозга, которая оставила очень серьезные последствия: нарушена координация, нарушена речь. «Игры победителей» были первыми ее соревнованиями в новой жизни. Ей было очень важно получить золото. И она получила в общем зачете золото. Для нее эта первая медаль после болезни была огромной мотивацией.
– Тут тебе могут сказать: ну, понятно, вы там просто детям, переболевшим раком, медали раздаете для хорошего настроения.
– Хочешь честно? Мы бы, может, и раздавали, но они сами не хотят. Дети сразу чувствуют поддавки – им это не нужно. Представь, у нас дети с какими-то серьезными последствиями болезни – например, ампутацией, – имеют возможность участвовать в соревнованиях в индивидуальном зачете. И они знаешь что?
– Что?
– Они отказываются! Они знают, что в общем зачете они придут последними, но вот для них важно участвовать в олимпиаде как все.
Но, кроме этого, Игры – вот правда, Катя, – это, как оказалось, тот самый свет, который очень нужен людям в больнице. Мамам. Детям. Волонтерам. Потому что, конечно, в каком-то смысле это – история про чудеса. Я сейчас почему-то вспомнила девочку одну… У нее была, как всем казалось, безвыходная ситуация.
– Очень серьезно. Я знаю истории, когда, только заболев, кто-то узнавал про Игры, и участие в них было мотивацией поправиться. У нас был мальчик из Нижнего Новгорода, пловец, который чуть ли не с рождения мечтал о спортивной карьере. Когда он заболел, для него это было просто личной катастрофой. Но он с самого начала лечения знал про Игры, он готовился. И он выписался, приехал к нам, взял золото. И для него, для его семьи это очень много значило.
У нас была девочка из Венгрии, она с детства плавала и занималась балетом, а потом у нее случилась опухоль мозга, которая оставила очень серьезные последствия: нарушена координация, нарушена речь. «Игры победителей» были первыми ее соревнованиями в новой жизни. Ей было очень важно получить золото. И она получила в общем зачете золото. Для нее эта первая медаль после болезни была огромной мотивацией.
– Тут тебе могут сказать: ну, понятно, вы там просто детям, переболевшим раком, медали раздаете для хорошего настроения.
– Хочешь честно? Мы бы, может, и раздавали, но они сами не хотят. Дети сразу чувствуют поддавки – им это не нужно. Представь, у нас дети с какими-то серьезными последствиями болезни – например, ампутацией, – имеют возможность участвовать в соревнованиях в индивидуальном зачете. И они знаешь что?
– Что?
– Они отказываются! Они знают, что в общем зачете они придут последними, но вот для них важно участвовать в олимпиаде как все.
Но, кроме этого, Игры – вот правда, Катя, – это, как оказалось, тот самый свет, который очень нужен людям в больнице. Мамам. Детям. Волонтерам. Потому что, конечно, в каком-то смысле это – история про чудеса. Я сейчас почему-то вспомнила девочку одну… У нее была, как всем казалось, безвыходная ситуация.
Маме врачи, к счастью, не в нашей больнице, сказали: «Вы девочку-то не брейте. Оставьте косички, чтоб она красивая была у вас. В гробу». Но случилось чудо. Девочка выжила, выздоровела, девочка участвовала в "Играх победителей" – одних из первых.
А еще есть мальчик, у которого несколько уже случилось рецидивов. Но так получилось, что Игры «попали» между рецидивами. И он плыл довольно длинную дистанцию и получил золото. Это многое значит.
– Дети разрешают тебе рассказывать их истории?
– Я не знала, какие истории буду тебе сегодня рассказывать, и не успела ни у кого спросить разрешения, обычно мы спрашиваем. И многим приятно и важно, что их историю кто-то узнает. Но вообще ведь это нормально: не стыдно сказать, что ты болел, а круто рассказать о своем очень серьезном жизненном опыте. Да?
– Да. Но обычно про это стараются молчать.
– Мне кажется, сейчас уже иначе. Ну сама посуди, ты слазил на Эверест в своей жизни. Да, ты этого не выбирал, но вот ты залез на Эверест, ты сходил в дикие нехоженые места. И ты оттуда вернулся. Во многом это зависело от тебя. Отчасти – вообще от тебя не зависело. Но ты вернулся. Вернулся совершенно точно с обогащенным жизненным опытом, и ты можешь поддержать тех, кто туда идет. И еще ты можешь гордиться собой.
– Дети разрешают тебе рассказывать их истории?
– Я не знала, какие истории буду тебе сегодня рассказывать, и не успела ни у кого спросить разрешения, обычно мы спрашиваем. И многим приятно и важно, что их историю кто-то узнает. Но вообще ведь это нормально: не стыдно сказать, что ты болел, а круто рассказать о своем очень серьезном жизненном опыте. Да?
– Да. Но обычно про это стараются молчать.
– Мне кажется, сейчас уже иначе. Ну сама посуди, ты слазил на Эверест в своей жизни. Да, ты этого не выбирал, но вот ты залез на Эверест, ты сходил в дикие нехоженые места. И ты оттуда вернулся. Во многом это зависело от тебя. Отчасти – вообще от тебя не зависело. Но ты вернулся. Вернулся совершенно точно с обогащенным жизненным опытом, и ты можешь поддержать тех, кто туда идет. И еще ты можешь гордиться собой.
– Но не все про это рассказывают.
– Потому что есть много этических моментов. Мне бы не хотелось уходить в motivation porn (чрезмерная откровенность ради мотивации – прим. ред.), когда люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, становятся источником подзарядки и напоминания о том, что жизнь короткая, на мелкие проблемы не нужно тратить нервы…
– А чего бы тебе хотелось от этих историй?
– Обстоятельного разговора. Без впадания в трагедию и пафос. Мне кажется, это худшее, что можно в этой теме сделать.
– Потому что есть много этических моментов. Мне бы не хотелось уходить в motivation porn (чрезмерная откровенность ради мотивации – прим. ред.), когда люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, становятся источником подзарядки и напоминания о том, что жизнь короткая, на мелкие проблемы не нужно тратить нервы…
– А чего бы тебе хотелось от этих историй?
– Обстоятельного разговора. Без впадания в трагедию и пафос. Мне кажется, это худшее, что можно в этой теме сделать.
Почему – я? А почему нет?
– Что ты почувствовала, когда уже про тебя лично прозвучало это слово: рак, когда тебе поставили онкологический диагноз?
– Первое – что мне повезло: я к этому моменту десять лет варилась в теме. Я оказалась психологически готова, я много чего прошла с другими людьми. Видела и кризисы, и выходы из кризисов. Изначально мой диагноз считался предонкологическим, за мной решили понаблюдать. Но это выяснилось уже после того, как я отсидела восьмичасовую очередь на прием к онкологу. Хорошо помню, как провела свои первые восемь часов в такой очереди, как впервые взглянула на ситуацию со скамейки игрока. Одно из первых открытий – ты не должен быть один. Для меня было очень важно, что все эти восемь часов мой муж просидел в машине под стенами этой больницы, меня это грело.
– Восемь часов очередь?
– Да, люди сидят и ждут, ждут, ждут. Это очень тяжелое зрелище. Но знаешь, что я увидела? Люди все приходят в эту очередь с кем-то обязательно: с мужем, с женой, с подругой, со взрослыми детьми. И это значит, что вы вместе можете попить чаю, на телефоне кино посмотреть. Человек тебя просто отвлечет разговорами. Это ужасно важно оказалось, ужасно важно.
– Как уместнее всего в этой ситуации предложить свою помощь?
– Это не так просто. Обычно мы стараемся собраться в критической ситуации: «Спокойно, я справлюсь! Я сейчас сам за рулем съезжу на химию, оттуда вернусь, пойду на работу и так далее», бравада такая, да? На это надо спокойно сказать: «Хорошо, ты съездишь. А я с тобой, эклеров возьму, мы там их пожуем». Я это говорю, исходя из собственного опыта. Мои друзья не отпускали меня ни на минуту. Были рядом в этом идеальном шторме.
– Что значит – «идеальный шторм»?
– Мой любимый химиотерапевт Михаил Ласков назвал мою ситуацию «идеальным штормом»: совпадение всех негативных сценариев. Произошло то, чего не должно было произойти – мой предонкологический диагноз на фоне беременности прогрессирует только в трети случаев. Чаще все либо остается, как было – либо как раз во время беременности уходит. А мне на шестом месяце диагностировали рак матки.
– Ты спросила: «За что?»
– Конечно, нет.
– А «Почему – я?»
– А почему не я? Я же все эти вопросы задавала себе раньше, когда очень любимые мною дети болели, когда они уходили. Я уже задавала тогда себе эти вопросы, понимаешь? Уходили дети, которые вообще не могли уйти, так сильно мы их любили, в них столько жизни было, столько энергии. В эти моменты понимаешь, что не все зависит от силы воли и любви. Есть статистика: грубо говоря, на 100 тысяч человек сколько-то там заболевает. Не заболела бы я – заболел бы кто-то другой из этих 100 тысяч человек. Почему не я? Все время крутится эта рулетка, на кого-то выпадает. Выпала на меня. Ну, о'кей. Значит, идем и разбираемся с этой ситуацией.
– Первое – что мне повезло: я к этому моменту десять лет варилась в теме. Я оказалась психологически готова, я много чего прошла с другими людьми. Видела и кризисы, и выходы из кризисов. Изначально мой диагноз считался предонкологическим, за мной решили понаблюдать. Но это выяснилось уже после того, как я отсидела восьмичасовую очередь на прием к онкологу. Хорошо помню, как провела свои первые восемь часов в такой очереди, как впервые взглянула на ситуацию со скамейки игрока. Одно из первых открытий – ты не должен быть один. Для меня было очень важно, что все эти восемь часов мой муж просидел в машине под стенами этой больницы, меня это грело.
– Восемь часов очередь?
– Да, люди сидят и ждут, ждут, ждут. Это очень тяжелое зрелище. Но знаешь, что я увидела? Люди все приходят в эту очередь с кем-то обязательно: с мужем, с женой, с подругой, со взрослыми детьми. И это значит, что вы вместе можете попить чаю, на телефоне кино посмотреть. Человек тебя просто отвлечет разговорами. Это ужасно важно оказалось, ужасно важно.
– Как уместнее всего в этой ситуации предложить свою помощь?
– Это не так просто. Обычно мы стараемся собраться в критической ситуации: «Спокойно, я справлюсь! Я сейчас сам за рулем съезжу на химию, оттуда вернусь, пойду на работу и так далее», бравада такая, да? На это надо спокойно сказать: «Хорошо, ты съездишь. А я с тобой, эклеров возьму, мы там их пожуем». Я это говорю, исходя из собственного опыта. Мои друзья не отпускали меня ни на минуту. Были рядом в этом идеальном шторме.
– Что значит – «идеальный шторм»?
– Мой любимый химиотерапевт Михаил Ласков назвал мою ситуацию «идеальным штормом»: совпадение всех негативных сценариев. Произошло то, чего не должно было произойти – мой предонкологический диагноз на фоне беременности прогрессирует только в трети случаев. Чаще все либо остается, как было – либо как раз во время беременности уходит. А мне на шестом месяце диагностировали рак матки.
– Ты спросила: «За что?»
– Конечно, нет.
– А «Почему – я?»
– А почему не я? Я же все эти вопросы задавала себе раньше, когда очень любимые мною дети болели, когда они уходили. Я уже задавала тогда себе эти вопросы, понимаешь? Уходили дети, которые вообще не могли уйти, так сильно мы их любили, в них столько жизни было, столько энергии. В эти моменты понимаешь, что не все зависит от силы воли и любви. Есть статистика: грубо говоря, на 100 тысяч человек сколько-то там заболевает. Не заболела бы я – заболел бы кто-то другой из этих 100 тысяч человек. Почему не я? Все время крутится эта рулетка, на кого-то выпадает. Выпала на меня. Ну, о'кей. Значит, идем и разбираемся с этой ситуацией.
– Но у тебя в этот момент внутри – ребенок. И есть еще старший ребенок, которому четыре года. Выбор, перед которым встает беременная женщина, получив диагноз «рак» – лечиться максимально быстро и эффективно, но избавиться от ребенка, или не лечиться вовсе, чтобы не навредить ребенку – но тогда рисковать собственной жизнью, так?
– В первый раз мы принимали решение, когда беременность случилась. Была вероятность прогрессирования моей тогда еще доброкачественной опухоли. Я очень боялась, что врачи скажут – нет выбора, беременность надо прервать. Это, наверное, было самое тяжелое. Когда во мне уже жил ребенок, но я не могла начать этому радоваться – потому что не знала, могу ли этого ребенка сохранить.
– Что сказали врачи?
– Меня вела фантастическая команда врачей. Все, что можно, изучили и пришли к выводу: есть высокая вероятность, что все будет хорошо. Я консультировалась у онколога и сдавала больше анализов, чем обычно полагается беременным. Но замечательно себя чувствовала, анализы были в норме, очень легкая беременность, я работала, все было хорошо.
– В первый раз мы принимали решение, когда беременность случилась. Была вероятность прогрессирования моей тогда еще доброкачественной опухоли. Я очень боялась, что врачи скажут – нет выбора, беременность надо прервать. Это, наверное, было самое тяжелое. Когда во мне уже жил ребенок, но я не могла начать этому радоваться – потому что не знала, могу ли этого ребенка сохранить.
– Что сказали врачи?
– Меня вела фантастическая команда врачей. Все, что можно, изучили и пришли к выводу: есть высокая вероятность, что все будет хорошо. Я консультировалась у онколога и сдавала больше анализов, чем обычно полагается беременным. Но замечательно себя чувствовала, анализы были в норме, очень легкая беременность, я работала, все было хорошо.
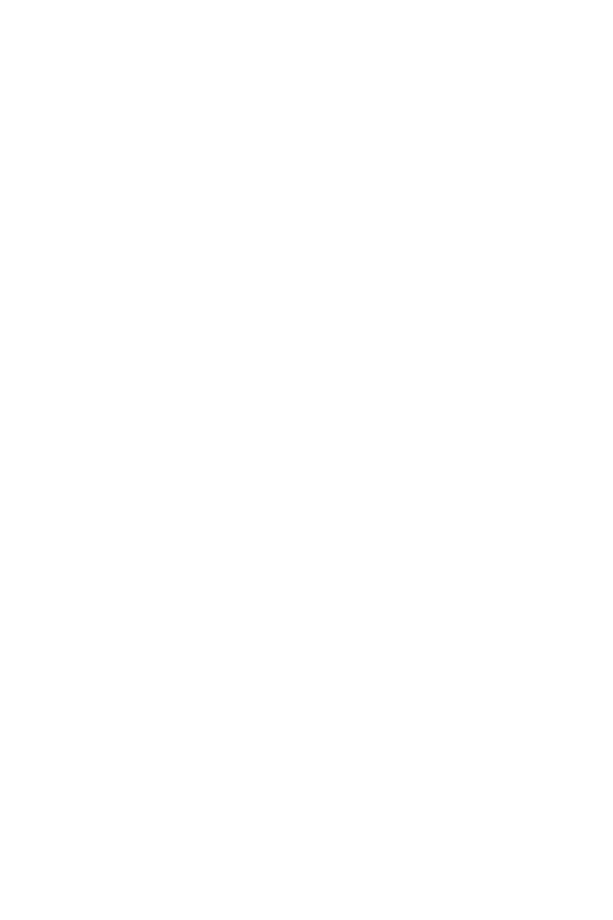
Гром среди ясного неба случился так: я пришла на очередной прием к онкологу Владимиру Носову – он потом меня оперировал, и я буду благодарна ему всю жизнь, – Носов посмотрел на меня и сказал: «Давай-ка биопсию будем брать. Если все будет нормально, пришлю тебе результаты на электронную почту. Если нет – приглашу на прием». Наступает пятница, звонит помощница Носова и назначает прием на самое раннее утро понедельника. И у меня впереди божественные выходные в полной неопределенности. Рождество, мы в гостях у друзей. Уже тогда меня стали окружать какой-то фантастической любовью – я прямо почувствовала, как меня со всех сторон подхватили.
– Но наступил понедельник.
– Я думала, мне назначат операцию, при которой есть риск выкидыша. Но оказалось, такой опции нет. На шестом месяце операция возможна только с прерыванием беременности. Ситуация такая: либо я не сохраняю беременность и иду спокойно лечиться – у меня первая стадия и, в общем, лечение минимальное. Либо я сохраняю беременность, и мы начинаем химиотерапию. При этом риск негативных последствий для ребенка – не больше 15%. А если не лечить, то риск, что рак перейдет в неоперабельную стадию еще до родов – больше 50%.
– Как ты сделала этот выбор?
– Меня успокоили – сейчас химиопрепараты такие, что я доношу беременность, тем более, в шесть месяцев у ребенка все уже сформировано. Ну и другого способа сохранить его нет. Нельзя ничего не делать с опухолью, позволяя ей расти на фоне беременности и этого гормонального взрыва. Восхищаюсь умением доктора Носова разговаривать с пациентами: я вышла от него спокойная, без сомнений, твердо настроенная на лечение.
– Но наступил понедельник.
– Я думала, мне назначат операцию, при которой есть риск выкидыша. Но оказалось, такой опции нет. На шестом месяце операция возможна только с прерыванием беременности. Ситуация такая: либо я не сохраняю беременность и иду спокойно лечиться – у меня первая стадия и, в общем, лечение минимальное. Либо я сохраняю беременность, и мы начинаем химиотерапию. При этом риск негативных последствий для ребенка – не больше 15%. А если не лечить, то риск, что рак перейдет в неоперабельную стадию еще до родов – больше 50%.
– Как ты сделала этот выбор?
– Меня успокоили – сейчас химиопрепараты такие, что я доношу беременность, тем более, в шесть месяцев у ребенка все уже сформировано. Ну и другого способа сохранить его нет. Нельзя ничего не делать с опухолью, позволяя ей расти на фоне беременности и этого гормонального взрыва. Восхищаюсь умением доктора Носова разговаривать с пациентами: я вышла от него спокойная, без сомнений, твердо настроенная на лечение.
«У тебя может остаться целых два здоровых ребенка, только мамы у них не будет»
– Спокойная?
– Мне казалось, что я очень спокойная. Правда, мы в этот же вечер поехали делать МРТ и у меня случился дичайший приступ клаустрофобии, к чему я никогда вообще не была склонна: меня ввезли в трубу, я вцепилась в клаксон и стала просить: вывозите меня, я не могу тут находиться, я волнуюсь. Ребенок внутри скачет, а я не могу даже руки на живот положить. Видимо, какими-то вот такими скачками выходили эмоции. После этого я поехала уже к химиотерапевту обсуждать план лечения.
И он мне говорит: «Я должен озвучить риски, это же я тебя буду химичить, это моя ответственность». И он стал говорить о рисках, о том, что есть очень небольшая вероятность того, что химия окажется несовместимой с беременностью или навредит ребенку. Вдруг он останавливается и говорит: «Я вижу по выражению твоего лица, что ты начинаешь менять решение». Я говорю: «Я не буду травить абсолютно здорового ребенка при таких возможных рисках».
– И что – врач?
– Он просто мне сказал прямым текстом, что в этой версии у тебя может остаться целых два здоровых ребенка, только мамы у них не будет. Ты готова сделать этот выбор?
– Что ты ответила?
– Меня фантастически поддержал мой муж, который ни на секунду не шатнулся в сторону выбора чьей-то жизни. То есть он так же, как и я, понимал, что равноценно важны мы оба – и я, и ребенок, который есть во мне.
– В советской – да и не только советской – медицине в приоритете всегда жизнь мамы. Особенно если речь идет о втором ребенке.
– Сейчас моему Грише два года. Абсолютно здоровый, совершенно фантастический ребенок. Ну как его могло не быть?
– Мне казалось, что я очень спокойная. Правда, мы в этот же вечер поехали делать МРТ и у меня случился дичайший приступ клаустрофобии, к чему я никогда вообще не была склонна: меня ввезли в трубу, я вцепилась в клаксон и стала просить: вывозите меня, я не могу тут находиться, я волнуюсь. Ребенок внутри скачет, а я не могу даже руки на живот положить. Видимо, какими-то вот такими скачками выходили эмоции. После этого я поехала уже к химиотерапевту обсуждать план лечения.
И он мне говорит: «Я должен озвучить риски, это же я тебя буду химичить, это моя ответственность». И он стал говорить о рисках, о том, что есть очень небольшая вероятность того, что химия окажется несовместимой с беременностью или навредит ребенку. Вдруг он останавливается и говорит: «Я вижу по выражению твоего лица, что ты начинаешь менять решение». Я говорю: «Я не буду травить абсолютно здорового ребенка при таких возможных рисках».
– И что – врач?
– Он просто мне сказал прямым текстом, что в этой версии у тебя может остаться целых два здоровых ребенка, только мамы у них не будет. Ты готова сделать этот выбор?
– Что ты ответила?
– Меня фантастически поддержал мой муж, который ни на секунду не шатнулся в сторону выбора чьей-то жизни. То есть он так же, как и я, понимал, что равноценно важны мы оба – и я, и ребенок, который есть во мне.
– В советской – да и не только советской – медицине в приоритете всегда жизнь мамы. Особенно если речь идет о втором ребенке.
– Сейчас моему Грише два года. Абсолютно здоровый, совершенно фантастический ребенок. Ну как его могло не быть?
– Ты боялась смерти?
– Конечно. И этот страх застрял во мне до сих пор. Но я боялась из-за детей. Мне было тридцать пять, и я понимала, что уже прожила офигительную жизнь, в которой все было. Большая настоящая любовь, про которую в книжках пишут, материнство, карьера. Я очень много путешествовала, у меня потрясающие друзья, – короче, все плюшки от жизни, кроме, разве что, внуков, я уже успела получить. Но мне хочется дожить хотя бы до 30-летия моих пацанов. И, конечно, я должна пережить своих родителей. Было очень страшно, что все будет не так.
– Людям до сих пор страшно слышать о раке, потому что он прочно ассоциируется со смертью. Мало кто по-настоящему рассчитывает на другой исход.
– У меня к этому моменту был десятилетний опыт в фонде «Подари жизнь» и почти десять лет «Игр победителей». Я понимала, о чем речь. Если бы у меня обнаружили более позднюю стадию, было бы тяжелее. Тут я знала, – это самое начало заболевания, врачи видят, что со мной делать. Если бы не совпало с беременностью, была бы вообще плевая история.
– Конечно. И этот страх застрял во мне до сих пор. Но я боялась из-за детей. Мне было тридцать пять, и я понимала, что уже прожила офигительную жизнь, в которой все было. Большая настоящая любовь, про которую в книжках пишут, материнство, карьера. Я очень много путешествовала, у меня потрясающие друзья, – короче, все плюшки от жизни, кроме, разве что, внуков, я уже успела получить. Но мне хочется дожить хотя бы до 30-летия моих пацанов. И, конечно, я должна пережить своих родителей. Было очень страшно, что все будет не так.
– Людям до сих пор страшно слышать о раке, потому что он прочно ассоциируется со смертью. Мало кто по-настоящему рассчитывает на другой исход.
– У меня к этому моменту был десятилетний опыт в фонде «Подари жизнь» и почти десять лет «Игр победителей». Я понимала, о чем речь. Если бы у меня обнаружили более позднюю стадию, было бы тяжелее. Тут я знала, – это самое начало заболевания, врачи видят, что со мной делать. Если бы не совпало с беременностью, была бы вообще плевая история.
Я не ожидала, насколько мне важны мои волосы
– Когда мы с тобой познакомились – ты была еще волонтером – у тебя была прекрасная коса…
– Я постриглась за неделю до второй химии, и стрижка продержалась ровно неделю. Волосы стали выпадать после первого блока. Где-то через три недели они полезли достаточно активно. И, знаешь, я не ожидала, насколько мне были важны эти волосы. Я помню, как сама всегда говорила лысым после химии девочкам: «Вы как эльфы, как инопланетянки». Я видела, что они очень красивые. Но когда со мной это произошло, оказалось, что я очень ценю свою внешность, что у меня есть образ меня, который я хочу видеть в зеркале. И когда он не такой, мне странно и плохо.
– Но ты решила побриться?
– Мой любимый парикмахер все знал. И он вообще не сделал никакой трагедии из того, что он меня стрижет. Он меня веселил! Отстриг мне хвост, назвал его «бобиком», мы с этим «бобиком» разговаривали. Потом он уговорил меня «бобика» сохранить. Я не хотела. «Кого я буду обманывать? Я не буду ходить в парике. Если я буду лысой, я буду ходить лысая, значит», – говорила я. А он отвечал: «Ты не знаешь, сколько будет блоков. Может быть, ты все-таки захочешь парик. А это твои волосы». Свои волосы, в итоге, я отдала в программу «Сантиметры красоты» фонда «Жизнь». И из них сделали фантастической красоты каре для девочки-подростка. Когда мне пришла эта фотография, у меня слезы брызнули из глаз, знаешь, как у клоуна, потому что ты видишь свои волосы на голове другого человека. Это очень странно. И красиво.
– Я постриглась за неделю до второй химии, и стрижка продержалась ровно неделю. Волосы стали выпадать после первого блока. Где-то через три недели они полезли достаточно активно. И, знаешь, я не ожидала, насколько мне были важны эти волосы. Я помню, как сама всегда говорила лысым после химии девочкам: «Вы как эльфы, как инопланетянки». Я видела, что они очень красивые. Но когда со мной это произошло, оказалось, что я очень ценю свою внешность, что у меня есть образ меня, который я хочу видеть в зеркале. И когда он не такой, мне странно и плохо.
– Но ты решила побриться?
– Мой любимый парикмахер все знал. И он вообще не сделал никакой трагедии из того, что он меня стрижет. Он меня веселил! Отстриг мне хвост, назвал его «бобиком», мы с этим «бобиком» разговаривали. Потом он уговорил меня «бобика» сохранить. Я не хотела. «Кого я буду обманывать? Я не буду ходить в парике. Если я буду лысой, я буду ходить лысая, значит», – говорила я. А он отвечал: «Ты не знаешь, сколько будет блоков. Может быть, ты все-таки захочешь парик. А это твои волосы». Свои волосы, в итоге, я отдала в программу «Сантиметры красоты» фонда «Жизнь». И из них сделали фантастической красоты каре для девочки-подростка. Когда мне пришла эта фотография, у меня слезы брызнули из глаз, знаешь, как у клоуна, потому что ты видишь свои волосы на голове другого человека. Это очень странно. И красиво.
– Ты познакомилась с этой девочкой?
– Нет.
– Хотела бы?
– Нет.
– Но ты так и не надела парик?
– Нет, но теперь понимаю тех, кто их носит. Моя подруга, замечательный фотограф Ольга Павлова, сделала мне фотосессию сразу после химии – я поняла, что это красиво. До этого было страшно: мой старший ребенок меня боялся, говорил: «Мама, ты похожа на пришельца». Когда он видел мою лысую голову, то начинал плакать. И я дома ходила с покрытой головой. Снимала шапку, только когда ребенок спал.
– Нет.
– Хотела бы?
– Нет.
– Но ты так и не надела парик?
– Нет, но теперь понимаю тех, кто их носит. Моя подруга, замечательный фотограф Ольга Павлова, сделала мне фотосессию сразу после химии – я поняла, что это красиво. До этого было страшно: мой старший ребенок меня боялся, говорил: «Мама, ты похожа на пришельца». Когда он видел мою лысую голову, то начинал плакать. И я дома ходила с покрытой головой. Снимала шапку, только когда ребенок спал.
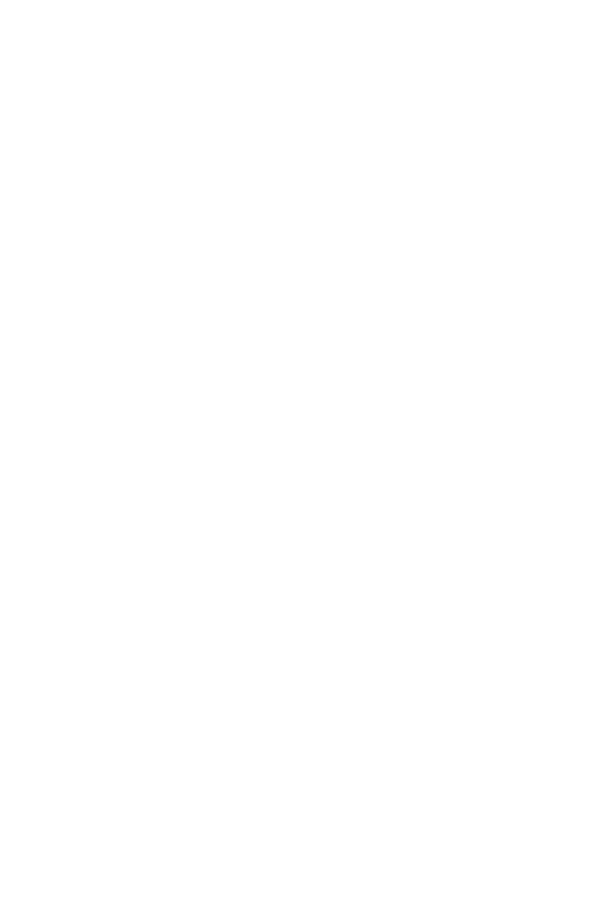
Фото: Ольга Павлова
– А за пределами дома ты тоже ходила в шапке?
– Нет. Как-то, уже после рождения младшего, Гриши, мы с мужем пошли в театр с друзьями. Наш приятель искал меня глазами в фойе, а я лысая стояла рядом, и он меня не узнавал. Когда узнал – спал с лица, сказал: «Ой, мне надо в буфет», и смылся.
– А ты?
– Я никогда не буду судить человека за такую слабость. Это просто дикий микс эмоций, люди не знают, как себя вести в этой ситуации, у нас этому не учат.
– Какое, по-твоему, поведение в этой ситуации правильно?
– Либо сказать, что мне это идет, либо сделать вид, что ничего не происходит. Но это требует колоссальных усилий. Правда. Поэтому я очень благодарна людям, которые продолжали на меня смотреть так же, как до болезни. Этого нельзя требовать ни от кого, все живые люди. Но те, кто продолжал со мной общаться, не поведя бровью, меня очень поддержали. Оказывается, это очень важно – уметь управлять собственным лицом и быть готовым, что в мире разные вещи происходят с разными людьми. Я, в конце концов, до своей болезни больше десяти лет общалась с разными онкологическими пациентами, но никогда не видела ни одной лысой беременной и не слышала ни про одну знакомую беременную женщину, которая столкнулась с раком.
– Ты поэтому решила рассказать свою историю?
– Да. Мне кажется, рак – это такой отвратительный дракон. Есть люди, которые ему дали по морде, и он в ответ огрызнулся. На кого-то – как на Галю Чаликову или Раису Горбачеву, которые как следует ему врезали – он огрызнулся смертельно. Я, пусть и скромно, но царапину на его щеке оставила – и от меня он отмахнулся полегче, чем от других, я не такой весомый для него персонаж. Где-то краем глаза заметил, махнул. Но знаешь что? Мы его – добьем.
– Нет. Как-то, уже после рождения младшего, Гриши, мы с мужем пошли в театр с друзьями. Наш приятель искал меня глазами в фойе, а я лысая стояла рядом, и он меня не узнавал. Когда узнал – спал с лица, сказал: «Ой, мне надо в буфет», и смылся.
– А ты?
– Я никогда не буду судить человека за такую слабость. Это просто дикий микс эмоций, люди не знают, как себя вести в этой ситуации, у нас этому не учат.
– Какое, по-твоему, поведение в этой ситуации правильно?
– Либо сказать, что мне это идет, либо сделать вид, что ничего не происходит. Но это требует колоссальных усилий. Правда. Поэтому я очень благодарна людям, которые продолжали на меня смотреть так же, как до болезни. Этого нельзя требовать ни от кого, все живые люди. Но те, кто продолжал со мной общаться, не поведя бровью, меня очень поддержали. Оказывается, это очень важно – уметь управлять собственным лицом и быть готовым, что в мире разные вещи происходят с разными людьми. Я, в конце концов, до своей болезни больше десяти лет общалась с разными онкологическими пациентами, но никогда не видела ни одной лысой беременной и не слышала ни про одну знакомую беременную женщину, которая столкнулась с раком.
– Ты поэтому решила рассказать свою историю?
– Да. Мне кажется, рак – это такой отвратительный дракон. Есть люди, которые ему дали по морде, и он в ответ огрызнулся. На кого-то – как на Галю Чаликову или Раису Горбачеву, которые как следует ему врезали – он огрызнулся смертельно. Я, пусть и скромно, но царапину на его щеке оставила – и от меня он отмахнулся полегче, чем от других, я не такой весомый для него персонаж. Где-то краем глаза заметил, махнул. Но знаешь что? Мы его – добьем.
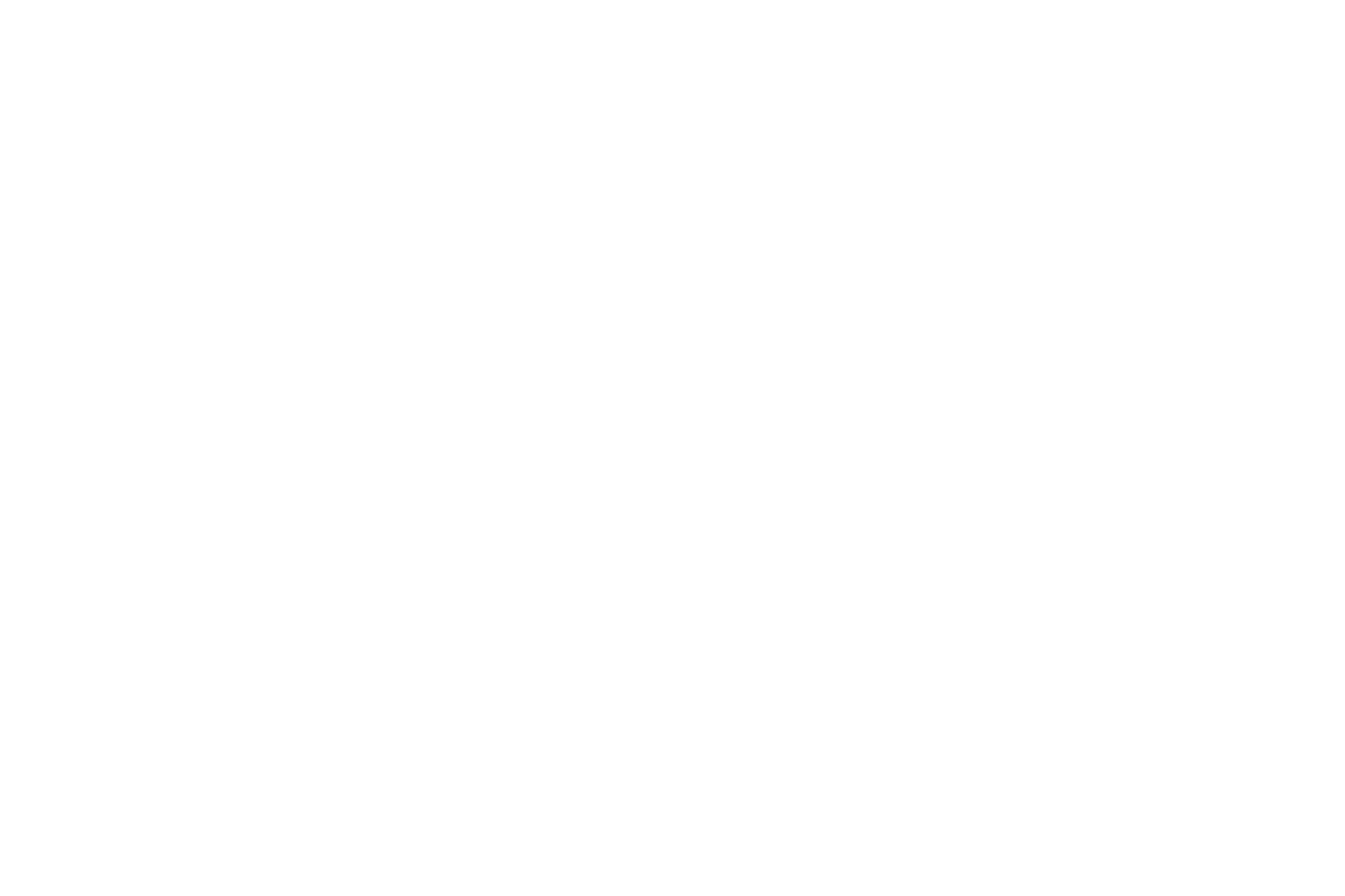
– Говорить – тоже способ борьбы с болезнью и страхом. Но у нас до сих пор как-то не принято рассказывать о таком опыте.
– Мне тоже не очень комфортно сейчас, по правде говоря. Но молчать было бы нечестно: ведь для Игр я рассказываю истории ребят, как я после этого могу молчать о себе? Я хочу, чтобы о моей истории узнало как можно больше женщин, которые попадают в похожие ситуации. У нас несколько десятков женщин каждый год заболевает раком на фоне беременности. И многие, в том числе, увы, и врачи, считают, что химиотерапия несовместима с беременностью, и беременность прерывают. А после лечения рака, особенно если оно сопровождается облучением, многих ждет бесплодие. И прерывая первую беременность, чтобы лечиться, женщина часто вообще теряет шанс стать матерью.
Я на шестом месяце беременности начала химиотерапию, прошла три блока до родов, один после, операцию. Я здорова, мой ребенок здоров. Врачи дают мой телефон пациенткам, попавшим в подобную ситуацию, мы разговариваем. С одной девушкой первый раз проговорили больше часа, поплакали вместе, обсудили, что волосы жалко и все такое. А потом она позвонила мне из родильной палаты: родила замечательного малыша и захотела этим поделиться. Но ведь есть женщины, которые о моем опыте не знают. Пусть узнают – на сегодняшний день развитие медицины позволяет лечить рак на фоне беременности. Позволяет выносить здорового ребенка и выздороветь самой.
– Когда ты родила Гришу, о чем первом ты подумала?
– Пока шла операция – это было кесарево – мы с врачами оживленно беседовали про «Подари жизнь» и «Игры победителей». А когда Гришку достали и врач сказала: «О, какой хорошенький, смотрите», я просто услышала, как весь родильный зал – там было полно врачей – сказал «Фух!» И половина сказала: «Ну, мы пошли». То есть никто виду не подавал, но все волновались.
Гриша родился здоровым, но его забрали в детскую реанимацию просто потому, что с таким анамнезом такие правила: двое суток ребенок должен провести в реанимации, потом – палата с наблюдением и только потом отдают. И я ходила к нему. Он лежал в кувезе, спал. А в соседние боксы приходили мамы, которые по четыре месяца не видели своих детей. Им-то, думала я, сложнее. Там такие маленькие есть дети, весом килограмм, даже меньше, и их выхаживают. И вот я ходила в халате со своей лысой головой и смотрела на этих самых беззащитных существ, которых я вообще когда-нибудь видела.
– Тебя в роддоме жалели?
– Меня особо не пожалеешь: я же всегда на драйве, всегда в хорошем настроении. А уж когда он родился и стало понятно, что все хорошо... Все меня в этом роддоме уже воспринимали как какую-то бритую мадам. Неформалку. Мы так и выписывались из роддома: я лысая и мой муж Слава с длинными волосами, оба в спортивных костюмах. А вокруг все идут такие нарядные, в платьях и с шариками.
– Мне тоже не очень комфортно сейчас, по правде говоря. Но молчать было бы нечестно: ведь для Игр я рассказываю истории ребят, как я после этого могу молчать о себе? Я хочу, чтобы о моей истории узнало как можно больше женщин, которые попадают в похожие ситуации. У нас несколько десятков женщин каждый год заболевает раком на фоне беременности. И многие, в том числе, увы, и врачи, считают, что химиотерапия несовместима с беременностью, и беременность прерывают. А после лечения рака, особенно если оно сопровождается облучением, многих ждет бесплодие. И прерывая первую беременность, чтобы лечиться, женщина часто вообще теряет шанс стать матерью.
Я на шестом месяце беременности начала химиотерапию, прошла три блока до родов, один после, операцию. Я здорова, мой ребенок здоров. Врачи дают мой телефон пациенткам, попавшим в подобную ситуацию, мы разговариваем. С одной девушкой первый раз проговорили больше часа, поплакали вместе, обсудили, что волосы жалко и все такое. А потом она позвонила мне из родильной палаты: родила замечательного малыша и захотела этим поделиться. Но ведь есть женщины, которые о моем опыте не знают. Пусть узнают – на сегодняшний день развитие медицины позволяет лечить рак на фоне беременности. Позволяет выносить здорового ребенка и выздороветь самой.
– Когда ты родила Гришу, о чем первом ты подумала?
– Пока шла операция – это было кесарево – мы с врачами оживленно беседовали про «Подари жизнь» и «Игры победителей». А когда Гришку достали и врач сказала: «О, какой хорошенький, смотрите», я просто услышала, как весь родильный зал – там было полно врачей – сказал «Фух!» И половина сказала: «Ну, мы пошли». То есть никто виду не подавал, но все волновались.
Гриша родился здоровым, но его забрали в детскую реанимацию просто потому, что с таким анамнезом такие правила: двое суток ребенок должен провести в реанимации, потом – палата с наблюдением и только потом отдают. И я ходила к нему. Он лежал в кувезе, спал. А в соседние боксы приходили мамы, которые по четыре месяца не видели своих детей. Им-то, думала я, сложнее. Там такие маленькие есть дети, весом килограмм, даже меньше, и их выхаживают. И вот я ходила в халате со своей лысой головой и смотрела на этих самых беззащитных существ, которых я вообще когда-нибудь видела.
– Тебя в роддоме жалели?
– Меня особо не пожалеешь: я же всегда на драйве, всегда в хорошем настроении. А уж когда он родился и стало понятно, что все хорошо... Все меня в этом роддоме уже воспринимали как какую-то бритую мадам. Неформалку. Мы так и выписывались из роддома: я лысая и мой муж Слава с длинными волосами, оба в спортивных костюмах. А вокруг все идут такие нарядные, в платьях и с шариками.
Право говорить на эту тему
– Сейчас ты часто вспоминаешь о своей болезни?
– Прошло меньше двух лет, как я закончила лечение. И вдруг оказалось, что последствия нагоняют сильно позже. Где-то через полтора года наступило какое-то абсолютное бессилие – и психологическое, и физическое. Ноль энергии вообще. Дело не только в том, что у меня двое детей и что я кормила их грудью, прерываясь только на блок химиотерапии. Просто пока лечилась – я собралась, чтобы бороться. А потом, когда все стало хорошо и пришло время радоваться, оказалось, что всю эту историю надо прожевать и проглотить, и потом только отпустить. Иначе она будет в тебе комком сидеть.
– Ты уже прожевала?
– Дожевываю.
– Можешь назвать самое главное, что ты получила от своей болезни?
– Право говорить на эту тему. Раньше я говорила про рак, будучи спикером «Игр победителей», но права у меня не было. Теперь все по-честному.
– Прошло меньше двух лет, как я закончила лечение. И вдруг оказалось, что последствия нагоняют сильно позже. Где-то через полтора года наступило какое-то абсолютное бессилие – и психологическое, и физическое. Ноль энергии вообще. Дело не только в том, что у меня двое детей и что я кормила их грудью, прерываясь только на блок химиотерапии. Просто пока лечилась – я собралась, чтобы бороться. А потом, когда все стало хорошо и пришло время радоваться, оказалось, что всю эту историю надо прожевать и проглотить, и потом только отпустить. Иначе она будет в тебе комком сидеть.
– Ты уже прожевала?
– Дожевываю.
– Можешь назвать самое главное, что ты получила от своей болезни?
– Право говорить на эту тему. Раньше я говорила про рак, будучи спикером «Игр победителей», но права у меня не было. Теперь все по-честному.
– «Играм победителей» в этом году десять лет. Ты расскажешь свою историю со сцены?
– Если будет нужно – да. Собственной потребности говорить об этом у меня нет. Но если это кого-то поддержит или кому-то поможет, – расскажу. Как принимала решение, как лечилась и как счастлива теперь. Потому что я прекрасно понимаю, что еще десять лет назад у меня бы не было выбора: тогда не было такой химиотерапии. Сейчас все это – есть. Дальше будет еще круче.
– Рак в итоге как-то изменил твою повседневную жизнь?
– Разве только в одном: я все время думаю – а что, если это мой последний год? Я бы так же жила его – или нет?
– И что ты себе отвечаешь?
– Мне очень важно и дорого, что я отвечаю себе: да, я прожила бы его точно так же. С этим мужчиной, с этими детьми, в окружении этих же дел и друзей. Занимаясь тем же самым, так же, жила бы в этом доме... Значит, все правильно. Значит я – счастливый человек. Очень.
– Если будет нужно – да. Собственной потребности говорить об этом у меня нет. Но если это кого-то поддержит или кому-то поможет, – расскажу. Как принимала решение, как лечилась и как счастлива теперь. Потому что я прекрасно понимаю, что еще десять лет назад у меня бы не было выбора: тогда не было такой химиотерапии. Сейчас все это – есть. Дальше будет еще круче.
– Рак в итоге как-то изменил твою повседневную жизнь?
– Разве только в одном: я все время думаю – а что, если это мой последний год? Я бы так же жила его – или нет?
– И что ты себе отвечаешь?
– Мне очень важно и дорого, что я отвечаю себе: да, я прожила бы его точно так же. С этим мужчиной, с этими детьми, в окружении этих же дел и друзей. Занимаясь тем же самым, так же, жила бы в этом доме... Значит, все правильно. Значит я – счастливый человек. Очень.