«Вот я и пришла»
Интервью Любови Аркус Катерине Гордеевой
Журналист Катерина Гордеева поговорила с киноведом, сценаристом, режиссером, главным редактором журнала «Сеанс», учредителем фонда «Выход в Санкт-Петербурге» и руководителем Центра «Антон тут рядом».
Говорили о Германе и Балабанове, о Сельянове и Добротворском, о Расторгуеве и Туровской. О любви и ненависти, об американских фильмах и польских журналах. Месяц назад Аркус дала Гордеевой интервью.
Говорили о Германе и Балабанове, о Сельянове и Добротворском, о Расторгуеве и Туровской. О любви и ненависти, об американских фильмах и польских журналах. Месяц назад Аркус дала Гордеевой интервью.

Катерина Гордеева
За год до интервью
«Я за рулем», – говорит Аркус, и я опрометчиво радуюсь: на улице ветер и снег и хочется немедленно в укрытие. Тащиться к метро или вызывать и ждать такси – не хочется. Пригибаясь, семеним по набережной канала Грибоедова к маленькой машине Аркус, с сугробом, надвинутым на лобовое. Она садится за руль, я – рядом. Гном – так давным-давно все вокруг называют помощницу Аркус, Иру – на заднее сиденье. На заднем сиденье Гном достает навигатор и набирает адрес, но я не придаю этому значения. Мне надо поговорить с Аркус.
– Почему ты не хочешь дать мне интервью?
– Просто не хочу. Не время. Не знаю. Зачем? О чем мы вообще будем говорить, Катя?
– О тебе.
– Это не предмет для разговора. О чем ты будешь спрашивать?
– Для начала спрошу, например, о твоем львовском детстве.
– Мое львовское детство? – Аркус отворачивается от дороги и смотрит на меня долго и удивленно.
Метет снег. Машина едет прямо в бок троллейбусу. «После моста через 50 метров – съезд направо», – сообщает Гном с заднего сиденья. Аркус оборачивается к ней и уточняет: первый съезд или второй. Бок троллейбуса так близко, что я отчетливо понимаю – эта поездка станет одной из самых памятных в моей жизни.
В последний момент троллейбус трусливо освобождает дорогу.
Аркус не замечает ни моего ужаса, ни троллейбуса. В конце моста она действительно поворачивает направо, подрезав какой-то «Бентли». Тот безутешно сигналит на обочине. Аркус курит.
– Мое детство. Я туда иногда – все чаще – мысленно возвращаюсь. Но там, видишь ли, все невозвратимо. Не восстановимо: нет моей молодой мамы. Нет моей бабушки. Нет моих прекрасных кузенов, моих родственников, маминых подружек.
– Ты помнишь маму такой, из детства?
– Думаю, с каждым днем, который проходит с момента маминой смерти, все отчетливее и яснее в моей памяти будет проступать мама моего детства – ты правильно выразилась.
– Какая она?
– В платье с блеклыми зелеными цветами, в босоножках, ремешки которых перетягивают тонкие лодыжки ее полненьких ножек, в белых клипсах и бусах, которые она почему-то называла "кораллами". Мама в моей памяти всегда смеется, она радостна, вокруг нее – наша, львовская, богема: ее друзья-журналисты, ее одинокие подружки, которые болтают, обсуждая все на свете: что-то бытовое, книжки, романы.
– Ее подруги, кто они?
– Поколение шестидесятниц, у которых были романтические представления о жизни. Они все искали любви.
– Ты – такая?
– Я – ребенок шестидесятников, бесконечно в мамино и папино поколение влюбленный, задвинутый на этом времени.
– Почему ты не хочешь дать мне интервью?
– Просто не хочу. Не время. Не знаю. Зачем? О чем мы вообще будем говорить, Катя?
– О тебе.
– Это не предмет для разговора. О чем ты будешь спрашивать?
– Для начала спрошу, например, о твоем львовском детстве.
– Мое львовское детство? – Аркус отворачивается от дороги и смотрит на меня долго и удивленно.
Метет снег. Машина едет прямо в бок троллейбусу. «После моста через 50 метров – съезд направо», – сообщает Гном с заднего сиденья. Аркус оборачивается к ней и уточняет: первый съезд или второй. Бок троллейбуса так близко, что я отчетливо понимаю – эта поездка станет одной из самых памятных в моей жизни.
В последний момент троллейбус трусливо освобождает дорогу.
Аркус не замечает ни моего ужаса, ни троллейбуса. В конце моста она действительно поворачивает направо, подрезав какой-то «Бентли». Тот безутешно сигналит на обочине. Аркус курит.
– Мое детство. Я туда иногда – все чаще – мысленно возвращаюсь. Но там, видишь ли, все невозвратимо. Не восстановимо: нет моей молодой мамы. Нет моей бабушки. Нет моих прекрасных кузенов, моих родственников, маминых подружек.
– Ты помнишь маму такой, из детства?
– Думаю, с каждым днем, который проходит с момента маминой смерти, все отчетливее и яснее в моей памяти будет проступать мама моего детства – ты правильно выразилась.
– Какая она?
– В платье с блеклыми зелеными цветами, в босоножках, ремешки которых перетягивают тонкие лодыжки ее полненьких ножек, в белых клипсах и бусах, которые она почему-то называла "кораллами". Мама в моей памяти всегда смеется, она радостна, вокруг нее – наша, львовская, богема: ее друзья-журналисты, ее одинокие подружки, которые болтают, обсуждая все на свете: что-то бытовое, книжки, романы.
– Ее подруги, кто они?
– Поколение шестидесятниц, у которых были романтические представления о жизни. Они все искали любви.
– Ты – такая?
– Я – ребенок шестидесятников, бесконечно в мамино и папино поколение влюбленный, задвинутый на этом времени.
Юрий Аркус. Папа
Фаина Абрамовна Грубштейн. Мама Любы
60-е годы. Мама, Люба и подружки мамы
Фаина Абрамовна Грубштейн. Мама Любы
60-е годы. Мама, Люба и подружки мамы
«Это же не интервью?» – уточняет Аркус, когда мы резко перестраиваемся на Гороховой из крайнего левого ряда в крайний правый. «Через триста метров второй съезд направо», – сообщает, повторяя навигатор, Гном. Аркус опять оборачивается к ней на заднее сиденье, чтобы сказать «спасибо, поняла». Машину заносит. Я закуриваю и не отвечаю. Мало ли, в конце концов, почему у меня включен диктофон.
– Детство – это мир, где все замешано на любви, – записывает мой диктофон голос Аркус. – Но у меня прямо в центре этой любви трагедия: ранняя смерть папы, с которой я никак не могла и не хотела смириться. А потом на семью, одна за другой, стали обрушиваться другие смерти.
Теперь мы едем медленно. И я ее рассматриваю: на щеке пляшет солнечный зайчик – отразившееся от обледенелого стекла бледное петербургское солнце. Я думаю о том, как, наверное, холодно и неуютно было этой Любе Аркус изо Львова начинать жить в этом городе Ленинграде. Но это не интервью. И спросить напрямую нельзя.
– Расскажи о своей семье.
– У меня была не одна семья. С одной стороны – мамина, очень патриархальная еврейская семья, с другой – папина, русская, харбинцы, – говорит Аркус, к моему облегчению, лихо паркуя машину в сугроб.
– Харбинцы во Львове – это как?
– Прадедушка по отцовской линии был крестьянином из крепостных, закончил московский институт инженеров транспорта и поехал работать на Китайскую военную железную дорогу с моей прабабушкой, на которой женился против воли родителей. Она была из полтавских мелкопоместных дворян, а он вот – крестьянин. У них было шесть детей и двухэтажный каменный дом в центре Харбина. Они жили в Китае, когда началась революция. Их младшая дочь, моя бабушка Люба влюбилась в большевика и сбежала с ним в Россию, на Дальний Восток, строить новое советское государство. Тогда прабабушка собрала всех детей и поехала за ней, а прадедушка сказал, что ноги его там, где революция, не будет. И остался в Харбине.
Дедушку в 1937-м расстреляли в Хабаровске, а бабушку там же арестовали, и она провела почти всю оставшуюся жизнь в лагерях. Арестовали и всех мужей ее сестер – семья оказалась перекалечена, а моя прабабушка собирала внуков по детдомам всей страны. После войны семья «собралась» во Львове: кто-то вышел из лагерей, кто-то не дожил. Папе моему было 25 лет, когда он встретил мою маму. Обе семьи – русская и еврейская – были против этого брака. В маминой семье я была «гойским» ребенком, а в папиной – нехристью.
Ко всему этому прибавь няню – адвентистку седьмого дня, которая меня страшно любила, но с утра до вечера прочила мне погибель во время Страшного суда. Конечно, все они меня по-своему очень любили. Я везде любимая была, но везде – не такая, как все. Любимая, но паршивая овца в стаде.
– Детство – это мир, где все замешано на любви, – записывает мой диктофон голос Аркус. – Но у меня прямо в центре этой любви трагедия: ранняя смерть папы, с которой я никак не могла и не хотела смириться. А потом на семью, одна за другой, стали обрушиваться другие смерти.
Теперь мы едем медленно. И я ее рассматриваю: на щеке пляшет солнечный зайчик – отразившееся от обледенелого стекла бледное петербургское солнце. Я думаю о том, как, наверное, холодно и неуютно было этой Любе Аркус изо Львова начинать жить в этом городе Ленинграде. Но это не интервью. И спросить напрямую нельзя.
– Расскажи о своей семье.
– У меня была не одна семья. С одной стороны – мамина, очень патриархальная еврейская семья, с другой – папина, русская, харбинцы, – говорит Аркус, к моему облегчению, лихо паркуя машину в сугроб.
– Харбинцы во Львове – это как?
– Прадедушка по отцовской линии был крестьянином из крепостных, закончил московский институт инженеров транспорта и поехал работать на Китайскую военную железную дорогу с моей прабабушкой, на которой женился против воли родителей. Она была из полтавских мелкопоместных дворян, а он вот – крестьянин. У них было шесть детей и двухэтажный каменный дом в центре Харбина. Они жили в Китае, когда началась революция. Их младшая дочь, моя бабушка Люба влюбилась в большевика и сбежала с ним в Россию, на Дальний Восток, строить новое советское государство. Тогда прабабушка собрала всех детей и поехала за ней, а прадедушка сказал, что ноги его там, где революция, не будет. И остался в Харбине.
Дедушку в 1937-м расстреляли в Хабаровске, а бабушку там же арестовали, и она провела почти всю оставшуюся жизнь в лагерях. Арестовали и всех мужей ее сестер – семья оказалась перекалечена, а моя прабабушка собирала внуков по детдомам всей страны. После войны семья «собралась» во Львове: кто-то вышел из лагерей, кто-то не дожил. Папе моему было 25 лет, когда он встретил мою маму. Обе семьи – русская и еврейская – были против этого брака. В маминой семье я была «гойским» ребенком, а в папиной – нехристью.
Ко всему этому прибавь няню – адвентистку седьмого дня, которая меня страшно любила, но с утра до вечера прочила мне погибель во время Страшного суда. Конечно, все они меня по-своему очень любили. Я везде любимая была, но везде – не такая, как все. Любимая, но паршивая овца в стаде.
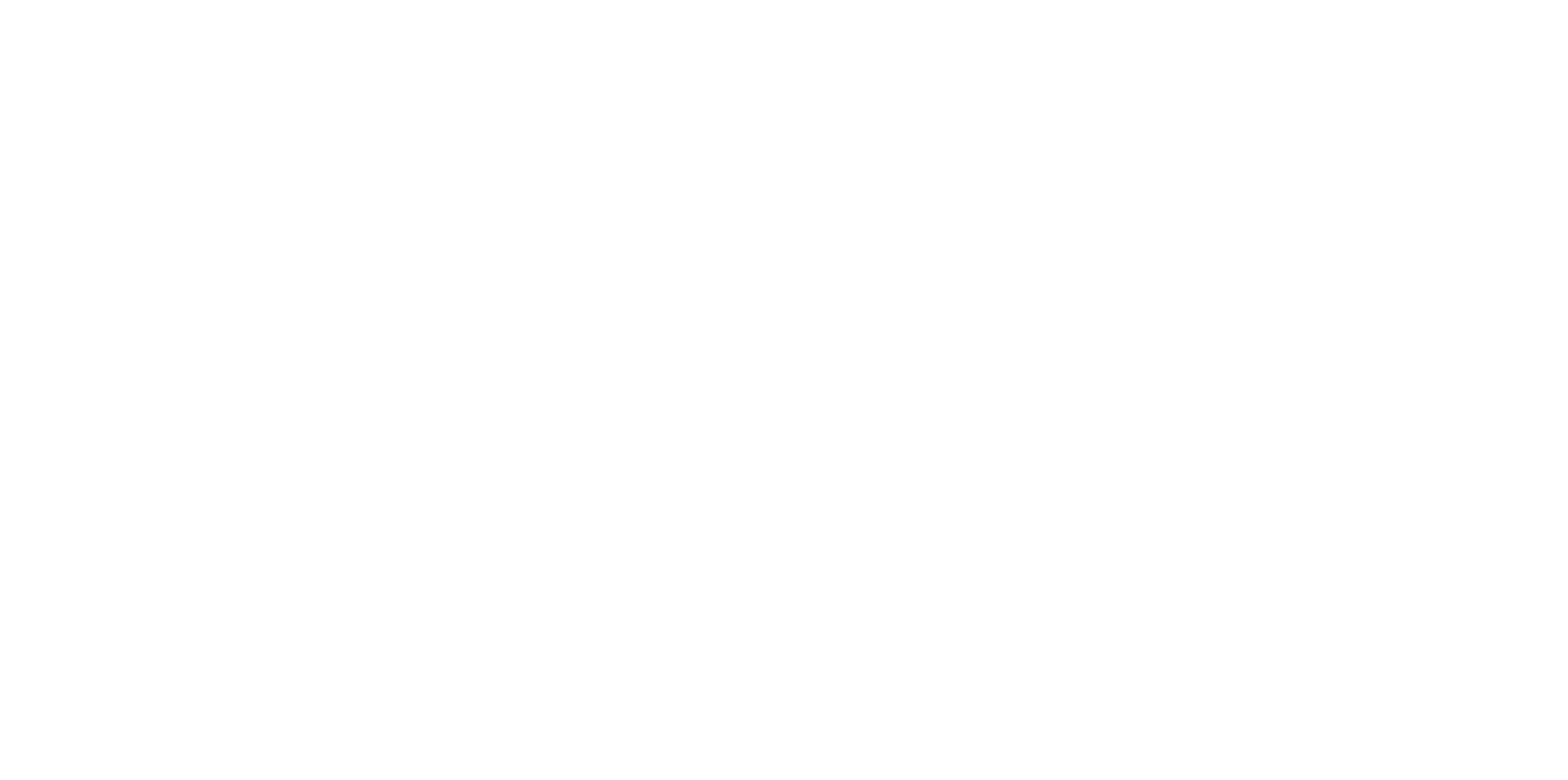
Семья Грубштейн, 20-е годы.
Харбинская семья отца, 20-е годы. Перед репатриацией в Советскую Россию
Харбинская семья отца, 20-е годы. Перед репатриацией в Советскую Россию
– Каким ты помнишь Львов своего детства?
– Я родилась в городе, который, как я только сейчас понимаю, всего 15 лет назад как был присоединен к Советскому Союзу: маленький европейский город с выстроенным укладом, где жили поляки, евреи, приехавшие после войны русские и украинцы. Поляков и евреев было большинство. Дом, в котором я выросла, и улица, на которой он стоял, находились в квартале профессоров, врачей и адвокатов.
К тому моменту, как я уже стала сознательным ребенком, умерли мои дедушка и бабушка, умер папа, и мы остались вдвоем с мамой. Мама была обворожительной детской женщиной. Она была очень красивой, она закончила факультет журналистики, у нас в доме собиралась богема, играл во всю мощь магнитофон «Днепр» и танцевали беззаконные пары. Все это с точки зрения чрезвычайно буржуазного окружения выглядело совсем нереспектабельно.
– Ты это понимала?
– Конечно, нет. Мама была моей любимой подружкой. Мне кажется, что уже в свои 9-10 лет я была взрослее ее.
Я была абсолютно счастлива с ней в детстве, но для других я была девочка с ключом на шее: мама пропадала на работе, а я болталась на улице. И страшно завидовала другим девочкам, которые в белых подколенниках с помпонами, с папкой для нот и мешочком для спортивной обуви со своими нянями шли на музыку и художественную гимнастику. Я хотела быть как они – то есть как все. Я хотела с ними дружить. Но я была «девочкой, с которой не разрешали дружить».
Мы сидим и курим в машине. Я – потому, что после этой экстремальной поездки нет сил выйти, Аркус – чтобы не курить на морозе.
– Как в твоей львовской жизни появилось кино?
– Все детство я ходила в кинотеатр имени Щорса, и меня завораживало само зрелище. Зажигался экран, и на нем появлялись Медный всадник или Рабочий и колхозница. Если ни то, ни другое, значит, будет французская комедия, что тоже хорошо. Или фильм про индейцев, – а это просто замечательно. В прокате был набор из двадцати названий, которые варьировались: «Не промахнись, Ассунта!», «Вперед, Франция!», «Большая стирка» и «Большая прогулка» с Луи де Фюнесом и Бурвилем. Еще «Верная Рука – друг индейцев». И советское кино. Сначала было это, и мне все нравилось без разбору. А потом уже выискивала вместе с мамой то, что идет третьим-четвертым экраном.
Помню, как на такси мы с ней ездили на «20 дней без войны» Германа – это был единственный вечерний сеанс в ДК Связи. Если бы я могла – я бы, наверное, тогда жила в кино. Но еще были книжки. Огромная библиотека – мамина, бабушкина и папина, очень много книг. Читала я, как и смотрела, тоже безо всякого разбору.
– Что ты читала?
– Читать меня научил мой двоюродный брат Адюня, с которым мы вместе росли. Он был старше меня на шесть лет, и он мне читал. Адюня был очень одиноким ребенком. Я была маленькой. Но была его единственной подружкой. С его голоса я помню Тома Сойера, «Остров сокровищ» и Оливера Твиста. Такие толстые книги я тогда не могла читать и потому без него читала, например, про маленького Володю Ульянова, тонкие, с картинками. Брат надо мной смеялся и отбирал у меня их.
Я тогда не понимала почему – очень любила Володю и всю его семью: вот эти Маняша, Аня, Саша, Дмитрий… Глубоко переживала рассказы «Секрет» и «Вранье». Потом читала про пионеров-героев. Страшно переживала по поводу того, что я бы не выдержала пытки.
В том, что фашисты будут меня пытать, сомнений у меня почти не было. Поэтому я все время себя испытывала: пыталась руку сунуть в огонь, что-нибудь порезать. Мне снились кошмары, в которых я рассказала, где партизаны. Я просыпалась и принимала решение, что нужно что-то делать срочно в плане закаливания, создавала какие-то тайные организации, изобретала шифры, которыми мы переписывались в классе, придумывая план по спасению Ленина.
– Я родилась в городе, который, как я только сейчас понимаю, всего 15 лет назад как был присоединен к Советскому Союзу: маленький европейский город с выстроенным укладом, где жили поляки, евреи, приехавшие после войны русские и украинцы. Поляков и евреев было большинство. Дом, в котором я выросла, и улица, на которой он стоял, находились в квартале профессоров, врачей и адвокатов.
К тому моменту, как я уже стала сознательным ребенком, умерли мои дедушка и бабушка, умер папа, и мы остались вдвоем с мамой. Мама была обворожительной детской женщиной. Она была очень красивой, она закончила факультет журналистики, у нас в доме собиралась богема, играл во всю мощь магнитофон «Днепр» и танцевали беззаконные пары. Все это с точки зрения чрезвычайно буржуазного окружения выглядело совсем нереспектабельно.
– Ты это понимала?
– Конечно, нет. Мама была моей любимой подружкой. Мне кажется, что уже в свои 9-10 лет я была взрослее ее.
Я была абсолютно счастлива с ней в детстве, но для других я была девочка с ключом на шее: мама пропадала на работе, а я болталась на улице. И страшно завидовала другим девочкам, которые в белых подколенниках с помпонами, с папкой для нот и мешочком для спортивной обуви со своими нянями шли на музыку и художественную гимнастику. Я хотела быть как они – то есть как все. Я хотела с ними дружить. Но я была «девочкой, с которой не разрешали дружить».
Мы сидим и курим в машине. Я – потому, что после этой экстремальной поездки нет сил выйти, Аркус – чтобы не курить на морозе.
– Как в твоей львовской жизни появилось кино?
– Все детство я ходила в кинотеатр имени Щорса, и меня завораживало само зрелище. Зажигался экран, и на нем появлялись Медный всадник или Рабочий и колхозница. Если ни то, ни другое, значит, будет французская комедия, что тоже хорошо. Или фильм про индейцев, – а это просто замечательно. В прокате был набор из двадцати названий, которые варьировались: «Не промахнись, Ассунта!», «Вперед, Франция!», «Большая стирка» и «Большая прогулка» с Луи де Фюнесом и Бурвилем. Еще «Верная Рука – друг индейцев». И советское кино. Сначала было это, и мне все нравилось без разбору. А потом уже выискивала вместе с мамой то, что идет третьим-четвертым экраном.
Помню, как на такси мы с ней ездили на «20 дней без войны» Германа – это был единственный вечерний сеанс в ДК Связи. Если бы я могла – я бы, наверное, тогда жила в кино. Но еще были книжки. Огромная библиотека – мамина, бабушкина и папина, очень много книг. Читала я, как и смотрела, тоже безо всякого разбору.
– Что ты читала?
– Читать меня научил мой двоюродный брат Адюня, с которым мы вместе росли. Он был старше меня на шесть лет, и он мне читал. Адюня был очень одиноким ребенком. Я была маленькой. Но была его единственной подружкой. С его голоса я помню Тома Сойера, «Остров сокровищ» и Оливера Твиста. Такие толстые книги я тогда не могла читать и потому без него читала, например, про маленького Володю Ульянова, тонкие, с картинками. Брат надо мной смеялся и отбирал у меня их.
Я тогда не понимала почему – очень любила Володю и всю его семью: вот эти Маняша, Аня, Саша, Дмитрий… Глубоко переживала рассказы «Секрет» и «Вранье». Потом читала про пионеров-героев. Страшно переживала по поводу того, что я бы не выдержала пытки.
В том, что фашисты будут меня пытать, сомнений у меня почти не было. Поэтому я все время себя испытывала: пыталась руку сунуть в огонь, что-нибудь порезать. Мне снились кошмары, в которых я рассказала, где партизаны. Я просыпалась и принимала решение, что нужно что-то делать срочно в плане закаливания, создавала какие-то тайные организации, изобретала шифры, которыми мы переписывались в классе, придумывая план по спасению Ленина.
С братом Адюней, Львов, 1964 год
Львов, 1968 год
Львов, 1968 год
– Какой это был класс?
– Первый или второй, наверное. Потом чтение стало, конечно, другим. Все собрания сочинений, все, что можно было найти дома, у друзей и в чудесных львовских букинах, как мы их называли. Хотя привычка читать все подряд осталась у меня до сих пор.
Аркус чиркает зажигалкой. Мы все же курим на морозе. Мимо к алкогольному ларьку идут напряженные люди. Скрипят дверью, ненадолго пропадают среди бутылок с цветными этикетками. Выходят, бодро звеня покупками в непрозрачных пакетах. И многообещающе пропадают в надвигающейся мгле. В декабре темнеет быстро, в Питере – особенно. Алкоголь здесь – привычное средство примирения с действительностью. Неизбежное, как климат.
Я иду за Аркус по темной лестнице с никогда не понятной питерской нумерацией квартир. Я вспоминаю один из первых ее текстов в «Сеансе». Номер, кажется, 1992 года был посвящен 1960-м «из-под стола». То есть, выходит, Любиному львовскому детству в том числе. Среди множества поразительных текстов о Ленине, Че Геваре, Чапаеве, милиционере, вражьих голосах и голосе Левитана, «Битлз», Джоне и Джекки Кеннеди, улыбке Кабирии, портрете Хемингуэя, Хрущеве и Гагарине был текст Аркус, называвшийся «Солженицын». Он кончался так: "Я до сих пор помню абсолютно все наименования мороженых с их ценой: семь копеек фруктовое, девять молочное, одиннадцать – маленькое эскимо, тринадцать – крем-брюле <…> Но до сих пор не могу вспомнить и ума не приложу, кто и когда объяснил мне и объяснял ли вообще, что Солженицын не Пушкин какой-нибудь и о нем нужно молчать в школе".
– Откуда у тебя в доме взялся Солженицын?
– Потому что такое бывало у нас в доме. Я Бродского прочитала в шестом классе – слепые копии синими буквами на папиросной бумаге. Я его стихи помню наизусть с этих страничек. А прекрасные книги его, изданные за последующие десятилетия, почти не открываю.
Вообще, Львов был важнейшей точкой на карте неофициальной культуры. Львовский театр, в котором я фактически выросла, первым в стране поставил «Утиную охоту» и Петрушевскую! Я увидела Людмилу Стефановну впервые, когда училась в 8-м классе. Однажды она задрала юбку и продемонстрировала всем свои рваные колготки со словами: «Вот, посмотрите, как живут советские драматурги!»
– А как ты туда попала?
– Я туда пришла на спектакль «Точка зрения» по Шукшину. По-моему, в стране его ставили только в двух театрах. Я была так им впечатлена и решила, что мне срочно надо к этим людям. Как-то нашла гримерки на четвертом этаже. Открыла дверь, увидела очень много людей, хаотично передвигающихся в небольшом пространстве, много дыма, потому что курили все. И раздраженного человека, который повернул голову и спросил: "Так! А тебе что, девочка?"
И тут я произнесла фразу, которая, в сущности, меня там оставила. Я сказала: «Вот я и пришла». Сняла куртку, повесила на вешалку, поставила сумку и села. Я была в школьной форме, с косами, а разговаривала, как и сейчас, басом. Немая сцена. Все замерли как будто в полурапиде. А потом начали ржать. Эту фразу потом использовали во всех капустниках театра много лет. И они бы меня тогда выгнали, конечно. Но им нужно было к 30-летию Победы ставить «В списках не значился», а значит, нужна была Верочка, сестра Плужникова.
И этот раздраженный человек – как выяснилось потом, самый главный! – сказал: "О, пожалуйста. Сама пришла". Так я и осталась. Пропадала там, практически бросила школу. Кать, ты можешь убрать этот ***ский диктофон?
– Первый или второй, наверное. Потом чтение стало, конечно, другим. Все собрания сочинений, все, что можно было найти дома, у друзей и в чудесных львовских букинах, как мы их называли. Хотя привычка читать все подряд осталась у меня до сих пор.
Аркус чиркает зажигалкой. Мы все же курим на морозе. Мимо к алкогольному ларьку идут напряженные люди. Скрипят дверью, ненадолго пропадают среди бутылок с цветными этикетками. Выходят, бодро звеня покупками в непрозрачных пакетах. И многообещающе пропадают в надвигающейся мгле. В декабре темнеет быстро, в Питере – особенно. Алкоголь здесь – привычное средство примирения с действительностью. Неизбежное, как климат.
Я иду за Аркус по темной лестнице с никогда не понятной питерской нумерацией квартир. Я вспоминаю один из первых ее текстов в «Сеансе». Номер, кажется, 1992 года был посвящен 1960-м «из-под стола». То есть, выходит, Любиному львовскому детству в том числе. Среди множества поразительных текстов о Ленине, Че Геваре, Чапаеве, милиционере, вражьих голосах и голосе Левитана, «Битлз», Джоне и Джекки Кеннеди, улыбке Кабирии, портрете Хемингуэя, Хрущеве и Гагарине был текст Аркус, называвшийся «Солженицын». Он кончался так: "Я до сих пор помню абсолютно все наименования мороженых с их ценой: семь копеек фруктовое, девять молочное, одиннадцать – маленькое эскимо, тринадцать – крем-брюле <…> Но до сих пор не могу вспомнить и ума не приложу, кто и когда объяснил мне и объяснял ли вообще, что Солженицын не Пушкин какой-нибудь и о нем нужно молчать в школе".
– Откуда у тебя в доме взялся Солженицын?
– Потому что такое бывало у нас в доме. Я Бродского прочитала в шестом классе – слепые копии синими буквами на папиросной бумаге. Я его стихи помню наизусть с этих страничек. А прекрасные книги его, изданные за последующие десятилетия, почти не открываю.
Вообще, Львов был важнейшей точкой на карте неофициальной культуры. Львовский театр, в котором я фактически выросла, первым в стране поставил «Утиную охоту» и Петрушевскую! Я увидела Людмилу Стефановну впервые, когда училась в 8-м классе. Однажды она задрала юбку и продемонстрировала всем свои рваные колготки со словами: «Вот, посмотрите, как живут советские драматурги!»
– А как ты туда попала?
– Я туда пришла на спектакль «Точка зрения» по Шукшину. По-моему, в стране его ставили только в двух театрах. Я была так им впечатлена и решила, что мне срочно надо к этим людям. Как-то нашла гримерки на четвертом этаже. Открыла дверь, увидела очень много людей, хаотично передвигающихся в небольшом пространстве, много дыма, потому что курили все. И раздраженного человека, который повернул голову и спросил: "Так! А тебе что, девочка?"
И тут я произнесла фразу, которая, в сущности, меня там оставила. Я сказала: «Вот я и пришла». Сняла куртку, повесила на вешалку, поставила сумку и села. Я была в школьной форме, с косами, а разговаривала, как и сейчас, басом. Немая сцена. Все замерли как будто в полурапиде. А потом начали ржать. Эту фразу потом использовали во всех капустниках театра много лет. И они бы меня тогда выгнали, конечно. Но им нужно было к 30-летию Победы ставить «В списках не значился», а значит, нужна была Верочка, сестра Плужникова.
И этот раздраженный человек – как выяснилось потом, самый главный! – сказал: "О, пожалуйста. Сама пришла". Так я и осталась. Пропадала там, практически бросила школу. Кать, ты можешь убрать этот ***ский диктофон?
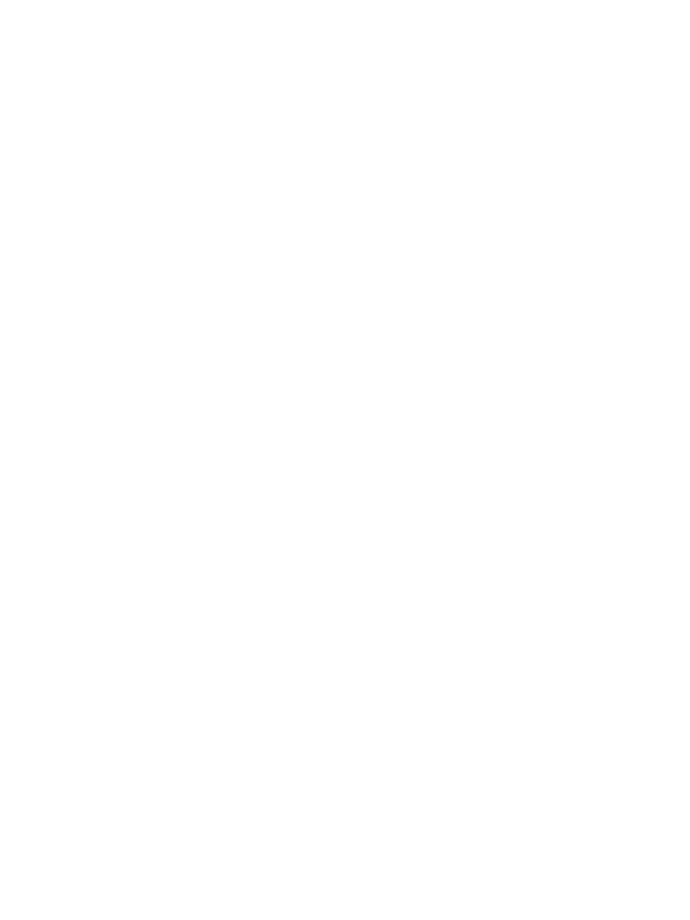
В архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, 2018 год
Я убираю. Мы смотрим на снег за окном: из-за теплого света в комнате кажется, что небо снаружи – синее. Внутри Аркус на натянутом поверх стены экране показывает снятые материалы фильма про Аллу Демидову. Демидова читает «Поэму без героя», концентрируясь, – как сама говорит, – на ядовито-зеленой надписи «ВЫХОД» в зрительном зале Санкт-Петербургской филармонии.
– Когда ты доделаешь фильм?
– Не знаю, не спрашивай. Катька, я так устала, – говорит Аркус.
И я не знаю, верит ли она, когда я пытаюсь сказать ей о том, что даже эти несколько смонтированных минут – грандиозны. Она молчит и расстраивается: «Времени ни на что нет, Катька. И сил нет. А ответственность есть», – говорит Аркуc. И, как будто пытаясь ввести меня в круг своей ответственности, обводит глазами стол с пепельницей, полной окурков, экран с застывшими ангелами Исаакиевского собора, окно с круглой луной, шпиль Петропавловской крепости, который, по правде говоря, отсюда не видно, но он есть; редакцию журнала «Сеанс», полуподвал центра «Антон тут рядом», где под потолком качается на нитке белая птица с синими глазами, которую склеила девочка Нина, мастерскую центра, где на только что обожженной глиняной кружке сохнет надпись: «Я времени не теряю. Время бесконечно. Времени вообще нет».
– Когда ты доделаешь фильм?
– Не знаю, не спрашивай. Катька, я так устала, – говорит Аркус.
И я не знаю, верит ли она, когда я пытаюсь сказать ей о том, что даже эти несколько смонтированных минут – грандиозны. Она молчит и расстраивается: «Времени ни на что нет, Катька. И сил нет. А ответственность есть», – говорит Аркуc. И, как будто пытаясь ввести меня в круг своей ответственности, обводит глазами стол с пепельницей, полной окурков, экран с застывшими ангелами Исаакиевского собора, окно с круглой луной, шпиль Петропавловской крепости, который, по правде говоря, отсюда не видно, но он есть; редакцию журнала «Сеанс», полуподвал центра «Антон тут рядом», где под потолком качается на нитке белая птица с синими глазами, которую склеила девочка Нина, мастерскую центра, где на только что обожженной глиняной кружке сохнет надпись: «Я времени не теряю. Время бесконечно. Времени вообще нет».
За полгода до интервью. Девочка из ниоткуда
Идет дождь. Стоим под козырьком и ждем, когда он кончится. У нас нет сил. Мы только что говорили о нашем погибшем друге, режиссере Саше Расторгуеве: когда-то Аркус приложила все усилия к тому, чтобы вытащить невероятно талантливого Сашу из Ростова-на-Дону в Петербург. Теперь Сашу убили в Центральной Африке. И сказать об этом, в общем-то, нечего. Просто очень больно и мы молчим. Идет дождь.
– Саша родился в 71-м году, – говорит Аркус, высовывая ладонь из-под козырька. Ей в руку падают сразу несколько капель. – Я хорошо почему-то помню как раз лето 1971 года: все время шел дождь, – я была в Паланге. Там была такая стеклянная библиотека на берегу речки. Мне было 11 лет. И я прочитала всего Тургенева: приходила и брала том за томом.
– Ты любила Палангу?
– Это – рай моего детства. Я ждала его весь год, этого момента, когда ты приезжаешь в Палангу. Дорога длинная: Львов, день в Вильнюсе, до Паланги на автобусе, потом место, где койки сдают. Потом: "Мама, можно?" – по деревянному настилу между соснами нужно было вбежать на гору, и тогда, с горы, открывалось оно: это серое, всегда бурлящее море. Наверное, не всегда был шторм – но я помню именно шторм. Это море из детства, которое единственное для меня до сих пор – море. Плавать нельзя, потому что мама не умеет, можно договариваться с каким-то чужими папами, чтобы они поплавали со мной, но только не дольше пятнадцати минут, а не то я заболею.
– Саша родился в 71-м году, – говорит Аркус, высовывая ладонь из-под козырька. Ей в руку падают сразу несколько капель. – Я хорошо почему-то помню как раз лето 1971 года: все время шел дождь, – я была в Паланге. Там была такая стеклянная библиотека на берегу речки. Мне было 11 лет. И я прочитала всего Тургенева: приходила и брала том за томом.
– Ты любила Палангу?
– Это – рай моего детства. Я ждала его весь год, этого момента, когда ты приезжаешь в Палангу. Дорога длинная: Львов, день в Вильнюсе, до Паланги на автобусе, потом место, где койки сдают. Потом: "Мама, можно?" – по деревянному настилу между соснами нужно было вбежать на гору, и тогда, с горы, открывалось оно: это серое, всегда бурлящее море. Наверное, не всегда был шторм – но я помню именно шторм. Это море из детства, которое единственное для меня до сих пор – море. Плавать нельзя, потому что мама не умеет, можно договариваться с каким-то чужими папами, чтобы они поплавали со мной, но только не дольше пятнадцати минут, а не то я заболею.
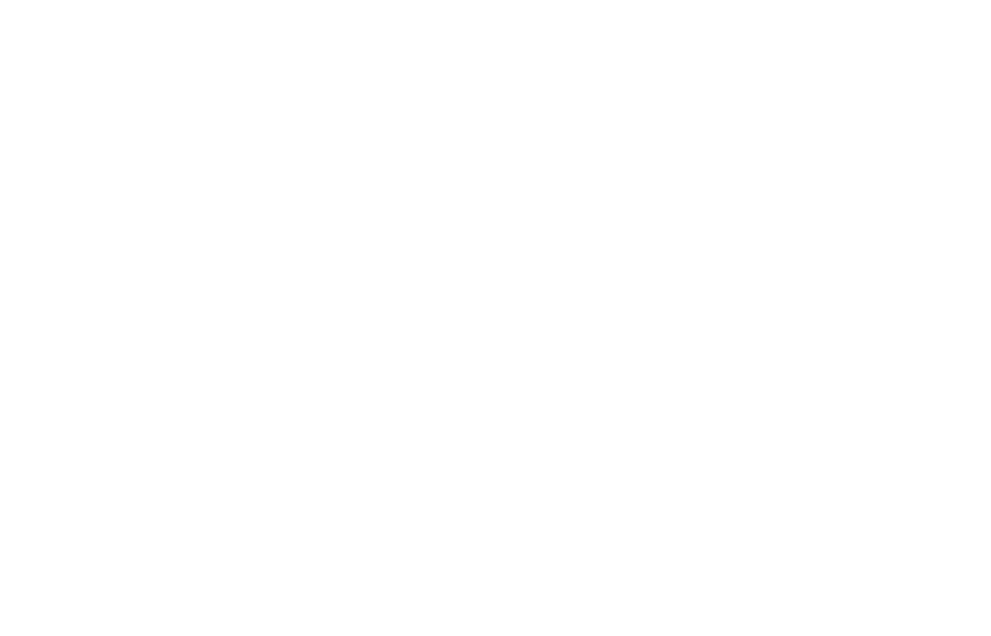
Паланга
– Я с таким всегда подозрением смотрю на людей, чье детство прошло у холодного моря. Мне кажется, вы – другие.
– Знаешь, было какое-то лето, когда мама меня повезла на Черное море. Оно было в сто раз теплее, спокойнее, у него не было такого бьющего в нос запаха. Но оно не было родным. Вот это вот слово «родной» – это, наверное, главное в наших отношениях с Расторгуевым.
– Болит?
– Болит. Представляешь, наш первый телефонный разговор продлился часов восемь или больше. Это был 2007 год. Потом полгода по нескольку таких разговоров в день, вдогонку письма. Огромные. Или в одну строчку. И еще эсэмэски. Он приезжал за это время дважды, но главными были телефон и письма.
Мы по телефону читали Мандельштама, пели «Не для меня придет весна» и «Переведи меня через Майдан». Я записывала рецепт ростовской ухи. Страшно ссорились. Орали друг на друга.
– Из-за ухи?
– Знаешь, было какое-то лето, когда мама меня повезла на Черное море. Оно было в сто раз теплее, спокойнее, у него не было такого бьющего в нос запаха. Но оно не было родным. Вот это вот слово «родной» – это, наверное, главное в наших отношениях с Расторгуевым.
– Болит?
– Болит. Представляешь, наш первый телефонный разговор продлился часов восемь или больше. Это был 2007 год. Потом полгода по нескольку таких разговоров в день, вдогонку письма. Огромные. Или в одну строчку. И еще эсэмэски. Он приезжал за это время дважды, но главными были телефон и письма.
Мы по телефону читали Мандельштама, пели «Не для меня придет весна» и «Переведи меня через Майдан». Я записывала рецепт ростовской ухи. Страшно ссорились. Орали друг на друга.
– Из-за ухи?
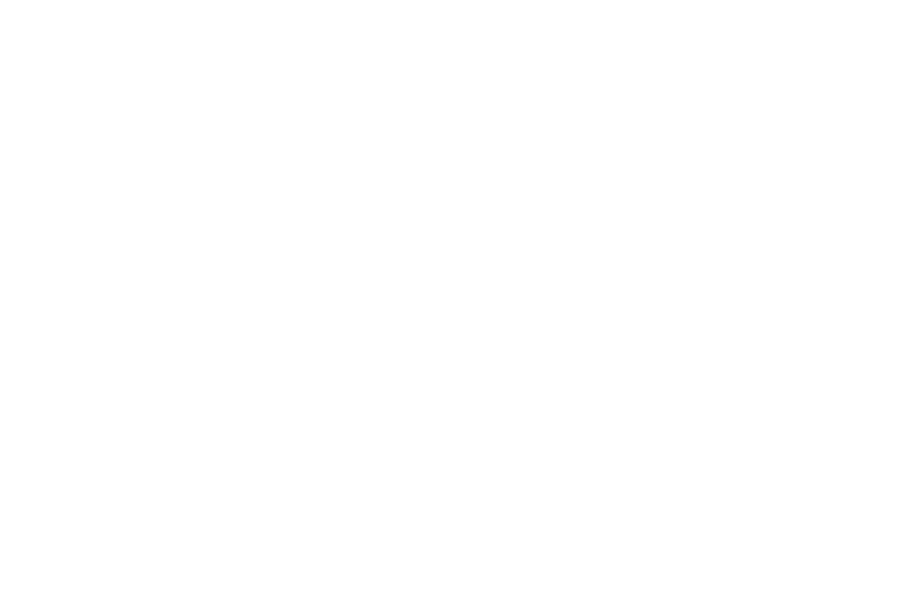
С Александром Расторгуевым на даче, 2010 год
– Из-за кино. Болевые наши точки – это отношения героя и автора в документальном кино, а также слово «реальность». Однажды он написал СМС: «Люба, родная. Вчера кричал, прости. Родной человек – это больше, чем близкий. Ты знаешь это». Я знала. Он был родной, и все в нем было родное. Его дар, его ум, его ор, его мат, его тяжесть, его нежность, его «социально неприемлемое поведение», его фильмы, его тексты – даже больше, чем фильмы. Он был не согласен на имитацию ни в чем. Он был помешан на этой чертовой «реальности», до которой он хотел добраться любой ценой – не жалея ни себя, ни своих героев. Он был готов перепахивать горы бессмысленного шлака, чтобы добраться до момента истины – в человеке. Он был…
Она трет мокрую ладонь о сухую. Молчим. Я знаю, мне надо поговорить с Аркус про Сашу и книгу о нем, про ее фильм о Балабанове, про журнал «Сеанс», про центр «Антон тут рядом», про ее блокадный фильм, про реформу ПНИ. Но совершенно ясно, что это все – потом. Хочется начать с самого начала. Попробовать отмотать туда, откуда она, Люба Аркус, началась.
Она трет мокрую ладонь о сухую. Молчим. Я знаю, мне надо поговорить с Аркус про Сашу и книгу о нем, про ее фильм о Балабанове, про журнал «Сеанс», про центр «Антон тут рядом», про ее блокадный фильм, про реформу ПНИ. Но совершенно ясно, что это все – потом. Хочется начать с самого начала. Попробовать отмотать туда, откуда она, Люба Аркус, началась.
– Ты легко бросила Львов и уехала в Москву?
– Я не собиралась никуда уезжать. Мне было хорошо, я любила свой город. И жизнь была устроена очень правильно. Я, конечно, ездила в Москву на спектакли Эфроса и на ретроспективу Вайды. Москва была городом событий, а Львов был городом жизни. Где были самые лучшие на свете кавярни [кофейни], где были брусчатые мостовые, где серые камни и всегда идет дождь.
В Петербурге дождь кончился. Мы идем медленно. По траве, что щекочет щиколотки, по мокрой щебенке пешеходных дорожек. Аркус кашляет. Она – только что после болезни. Она вообще – много болеет, потому что никогда не успевает как следует полечиться.
– Когда ты уехала из своего Львова в 1980-м поступать во ВГИК, ты рассчитывала вернуться или уезжала навсегда?
– Я во ВГИК поступала три раза: я была никто, девочка из ниоткуда без связей и знакомств. Не поступила первый раз – и вернулась во Львов. Не поступила во второй. А на третий раз меня валила вся кафедра – по русскому, по литературе, – но меня невозможно было завалить. Я была готова ко всему.
– Я не собиралась никуда уезжать. Мне было хорошо, я любила свой город. И жизнь была устроена очень правильно. Я, конечно, ездила в Москву на спектакли Эфроса и на ретроспективу Вайды. Москва была городом событий, а Львов был городом жизни. Где были самые лучшие на свете кавярни [кофейни], где были брусчатые мостовые, где серые камни и всегда идет дождь.
В Петербурге дождь кончился. Мы идем медленно. По траве, что щекочет щиколотки, по мокрой щебенке пешеходных дорожек. Аркус кашляет. Она – только что после болезни. Она вообще – много болеет, потому что никогда не успевает как следует полечиться.
– Когда ты уехала из своего Львова в 1980-м поступать во ВГИК, ты рассчитывала вернуться или уезжала навсегда?
– Я во ВГИК поступала три раза: я была никто, девочка из ниоткуда без связей и знакомств. Не поступила первый раз – и вернулась во Львов. Не поступила во второй. А на третий раз меня валила вся кафедра – по русскому, по литературе, – но меня невозможно было завалить. Я была готова ко всему.
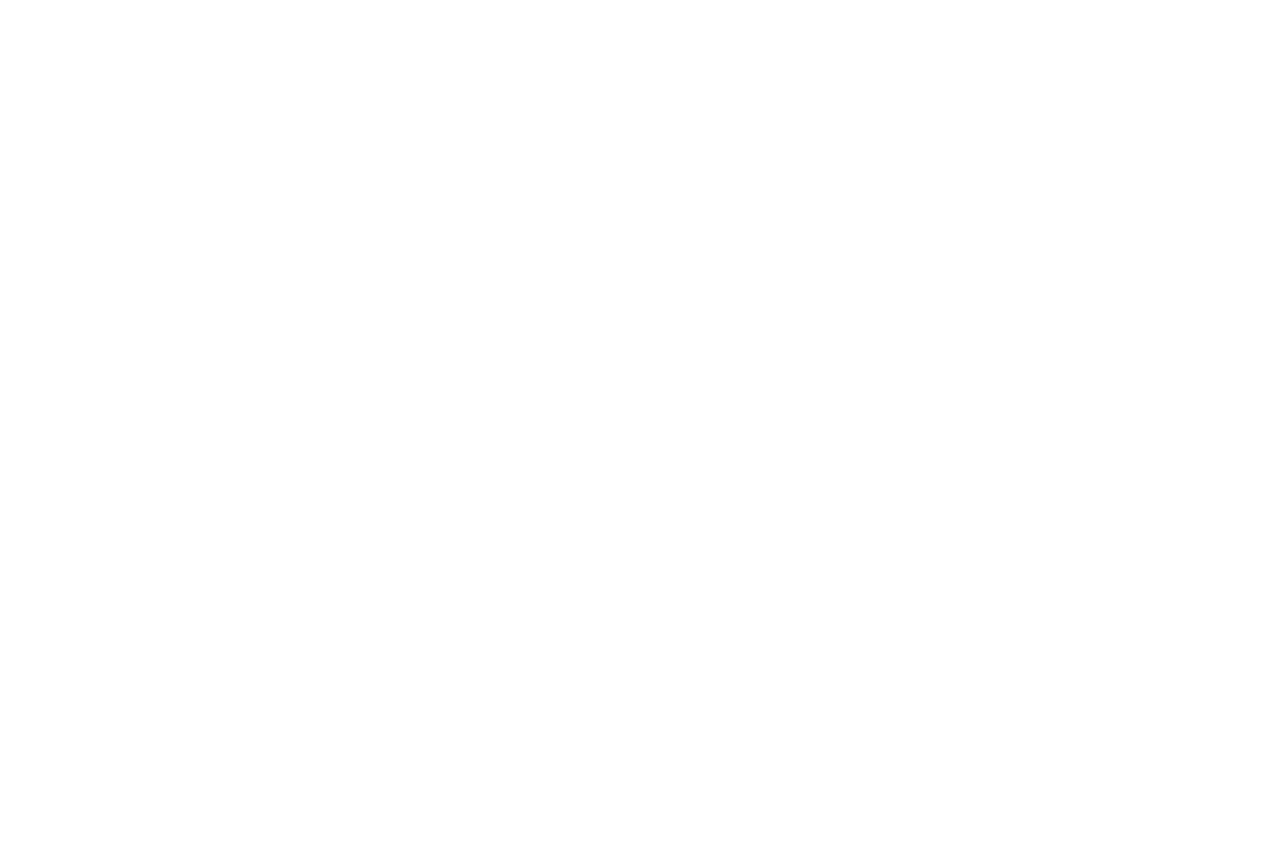
ВГИК, начало 80-х
– Ты хотела быть режиссером?
– Нет, что ты, я понимала, что на режиссуру меня не возьмут. Поэтому выбрала киноведение. Я очень много знала: покупала книжки по кино, переписывала их, делала таблички, карточки.
– Как ты выжила, переехав в Москву?
– Мне кажется, я тогда умерла, – говорит Люба. И мы останавливаемся. Ей надо сейчас говорить, глядя на меня. На ходу такое не скажешь.
– Нет, что ты, я понимала, что на режиссуру меня не возьмут. Поэтому выбрала киноведение. Я очень много знала: покупала книжки по кино, переписывала их, делала таблички, карточки.
– Как ты выжила, переехав в Москву?
– Мне кажется, я тогда умерла, – говорит Люба. И мы останавливаемся. Ей надо сейчас говорить, глядя на меня. На ходу такое не скажешь.
– Я думаю, – говорит Аркус, – что люди умирают и рождаются несколько раз за жизнь. И когда ты умираешь, с тобой умирает весь твой мир. И только потом, много времени спустя, ты понимаешь, что он никуда не делся.
Она говорит, а мне кажется, мы сами с ней больше не на проезжей улице, остановились и мешаем людям пройти. Мы летим, как персонажи картин Шагала, над третьим – не Москва и не Львов – городом, в котором каждому, решившемуся жить, требуется немножко умереть.
– Впервые я это поняла, когда совсем заболела мама, – говорит Аркус. – В ее страшной болезни наступил такой момент, когда она перестала быть собой. Это была мама, но уже не мама. Тогда я поехала в Палангу, внезапно, совсем одна. Это было после завершения монтажа фильма «Антон тут рядом». Был такой момент – одна жизнь закончилась, а другая еще не началась. Шла по улице, узнавая каждый дом, каждый магазин, кафе, кинотеатр. И вдруг я увидела, что по противоположной стороне идет моя молодая мама. Поверь, это было гораздо реальнее, чем все остальное – я была менее реальной, чем она. Я все вспомнила: ее прическу, платье, босоножки, нитку с бусами на шее. Мир, который умер, казалось, невозвратимо, вдруг вернулся ко мне – оказался на расстоянии вытянутой руки. Намного ближе, чем можно было себе представить.
– Ты по себе, той, скучаешь?
– Я скучаю по той своей маме, по курилке театра «Гаудеамус», в которую врывается Озеров перед спектаклем и сначала орет, а потом зовет на сцену, всегда одними и теми же словами: «Дети. С Богом». По нашему облупленному дому кинематографистов в Репино, где уже никто не живет, только мы с Алексеем Юрьевичем Германом, Светой [жена Германа, Светлана Кармалита] и нашими собаками. Где мы в сотый раз смотрим «Андрея Рублева», и Герман чешет пузо и огорченно говорит: «Ну что, Любка, после такого можно снимать?» По тому, как мы с подругой Надей, женой Леши Балабанова, ищем его по ночам в Петербурге, и, знаешь, Катя, ведь всегда находим! По Сереже Добротворскому и нашей с ним, например, Риге, куда мы приехали на фестиваль «Арсенал» и однажды перепели хор шведских священников за стеной в гостиничном номере.
– Выходит, тех, кого ты любишь, уже больше там, чем – здесь.
– Не говори так. Грех жаловаться. Здесь и сейчас есть мои дети. Как ни крути, Катя, на каком-то самом глубинном уровне, дети все равно главное.
– Впервые я это поняла, когда совсем заболела мама, – говорит Аркус. – В ее страшной болезни наступил такой момент, когда она перестала быть собой. Это была мама, но уже не мама. Тогда я поехала в Палангу, внезапно, совсем одна. Это было после завершения монтажа фильма «Антон тут рядом». Был такой момент – одна жизнь закончилась, а другая еще не началась. Шла по улице, узнавая каждый дом, каждый магазин, кафе, кинотеатр. И вдруг я увидела, что по противоположной стороне идет моя молодая мама. Поверь, это было гораздо реальнее, чем все остальное – я была менее реальной, чем она. Я все вспомнила: ее прическу, платье, босоножки, нитку с бусами на шее. Мир, который умер, казалось, невозвратимо, вдруг вернулся ко мне – оказался на расстоянии вытянутой руки. Намного ближе, чем можно было себе представить.
– Ты по себе, той, скучаешь?
– Я скучаю по той своей маме, по курилке театра «Гаудеамус», в которую врывается Озеров перед спектаклем и сначала орет, а потом зовет на сцену, всегда одними и теми же словами: «Дети. С Богом». По нашему облупленному дому кинематографистов в Репино, где уже никто не живет, только мы с Алексеем Юрьевичем Германом, Светой [жена Германа, Светлана Кармалита] и нашими собаками. Где мы в сотый раз смотрим «Андрея Рублева», и Герман чешет пузо и огорченно говорит: «Ну что, Любка, после такого можно снимать?» По тому, как мы с подругой Надей, женой Леши Балабанова, ищем его по ночам в Петербурге, и, знаешь, Катя, ведь всегда находим! По Сереже Добротворскому и нашей с ним, например, Риге, куда мы приехали на фестиваль «Арсенал» и однажды перепели хор шведских священников за стеной в гостиничном номере.
– Выходит, тех, кого ты любишь, уже больше там, чем – здесь.
– Не говори так. Грех жаловаться. Здесь и сейчас есть мои дети. Как ни крути, Катя, на каком-то самом глубинном уровне, дети все равно главное.
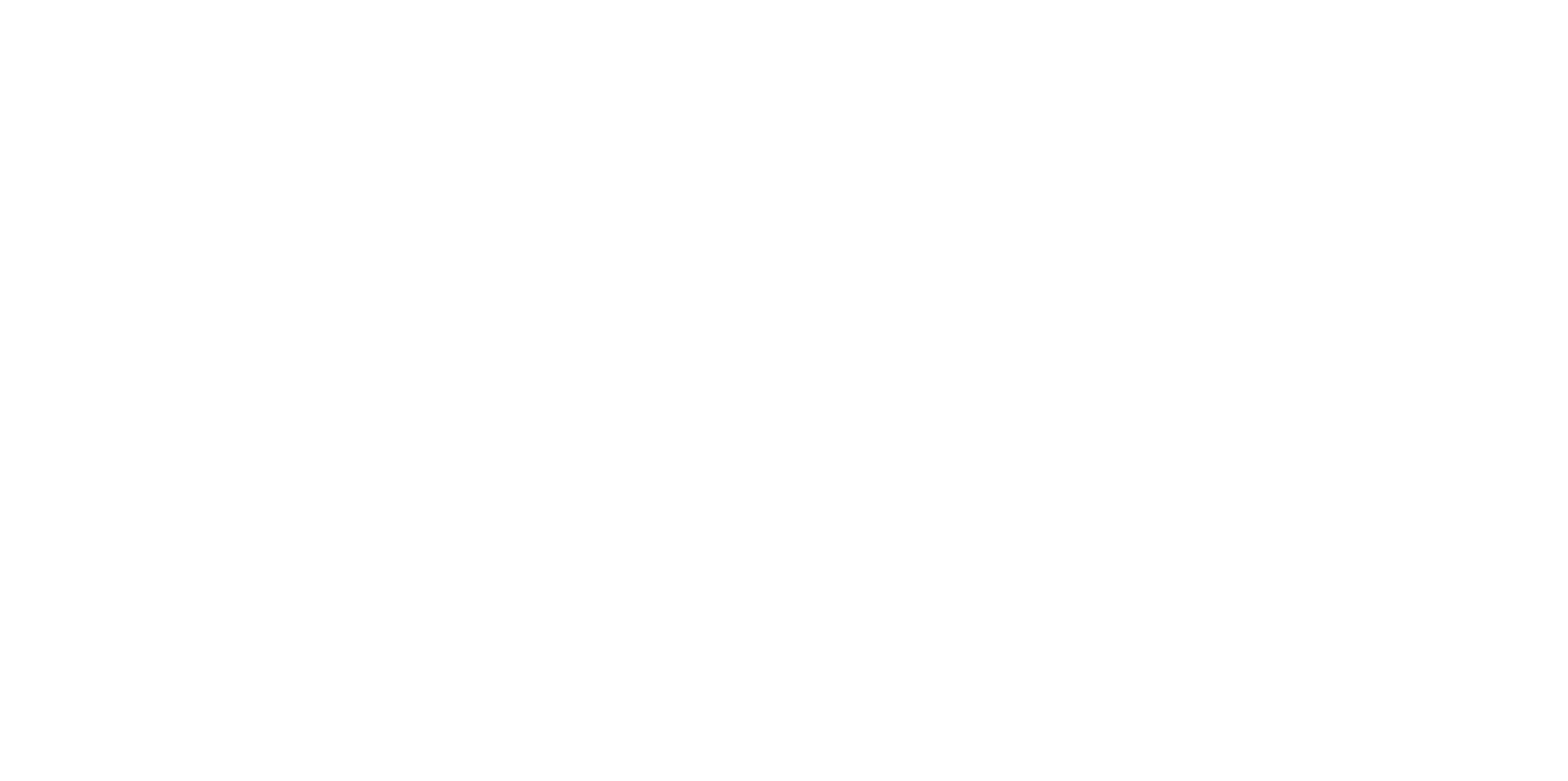
С дочерью Нюшей, 1988 год
С внуками Мишей и Лёвой, 2019 год
С внуками Мишей и Лёвой, 2019 год
– Ты хорошая мать?
– Когда родилась Нюша, у меня была маниакальная «мамашина» идея, одна из самых вредоносных, кстати – чтобы у нее все было, чего у меня не было. Чтобы все было «не хуже, чем у других девочек» из моего детства. Хотела, чтобы с ней все было по-другому. Прикладывала, что называется, все усилия.
Я мечтала, помимо прочего, что будет у Нюши своя комната. Я эту детскую, которой у меня сроду не было, все в мыслях своих придумывала, обставляла так и эдак. А в реальности сначала была коммуналка, потом полуподвал, потом, наконец, квартира, но Нюша жила в комнате с бабушкой. Но вот я получила гонорар за энциклопедию, мы накопили денег и сделали обмен, прибавивший нам комнату. И я объехала все магазины, чтобы эту комнату обставить. И вот – последний штрих, магазин «Свет». Я долго объясняю консультанту, милой женщине, про свою долгожданную детскую комнату: мебель такая, шторы такие, обои с плюшевыми мишками. И тут она спрашивает: «А сколько лет девочке?» – «Пятнадцать», – говорю. И она аж руками всплеснула: «Женщина, опомнитесь! Какие обои с плюшевыми мишками, вы же все это через год переклеивать будете!» Я оторопело уставилась на консультанта. И заревела.
– Твоя дочь похожа на тебя?
– Моя Нюша – кандидат наук, успешный молодой ученый, мать семейства. Ее дети, мои внуки Миша и Левушка – это главное мое счастье. Живут они в Москве, каждые две-три недели я езжу в Москву забрать их на выходные.
– То есть они – в Москве, а ты одна – в Петербурге?
– Здесь, в Петербурге, у меня своя семья. Это моя редакция [журнала «Сеанс»], мои ученики: Вася, Петя, Арина, Гном. Еще, конечно, Костя Шавловский и Митя Савельев.
– Когда родилась Нюша, у меня была маниакальная «мамашина» идея, одна из самых вредоносных, кстати – чтобы у нее все было, чего у меня не было. Чтобы все было «не хуже, чем у других девочек» из моего детства. Хотела, чтобы с ней все было по-другому. Прикладывала, что называется, все усилия.
Я мечтала, помимо прочего, что будет у Нюши своя комната. Я эту детскую, которой у меня сроду не было, все в мыслях своих придумывала, обставляла так и эдак. А в реальности сначала была коммуналка, потом полуподвал, потом, наконец, квартира, но Нюша жила в комнате с бабушкой. Но вот я получила гонорар за энциклопедию, мы накопили денег и сделали обмен, прибавивший нам комнату. И я объехала все магазины, чтобы эту комнату обставить. И вот – последний штрих, магазин «Свет». Я долго объясняю консультанту, милой женщине, про свою долгожданную детскую комнату: мебель такая, шторы такие, обои с плюшевыми мишками. И тут она спрашивает: «А сколько лет девочке?» – «Пятнадцать», – говорю. И она аж руками всплеснула: «Женщина, опомнитесь! Какие обои с плюшевыми мишками, вы же все это через год переклеивать будете!» Я оторопело уставилась на консультанта. И заревела.
– Твоя дочь похожа на тебя?
– Моя Нюша – кандидат наук, успешный молодой ученый, мать семейства. Ее дети, мои внуки Миша и Левушка – это главное мое счастье. Живут они в Москве, каждые две-три недели я езжу в Москву забрать их на выходные.
– То есть они – в Москве, а ты одна – в Петербурге?
– Здесь, в Петербурге, у меня своя семья. Это моя редакция [журнала «Сеанс»], мои ученики: Вася, Петя, Арина, Гном. Еще, конечно, Костя Шавловский и Митя Савельев.
– «Сеанс» всегда был семьей?
– Так не задумывалось, но так получилось. И из него главные сотрудники и главные авторы навсегда не уходят за редчайшими исключениями.
– Откуда в твоей жизни взялась Гном?
– Гном (Ирина Штрих) написала мне письмо в 2012 году, после просмотра фильма «Антон тут рядом». Таких писем в тот год я получала очень много, не успевала отвечать. Но через полгода, когда я уже начала создавать фонд («Выход в Санкт-Петербурге»), написала ей. С тех пор мы всегда вместе. Без нее не было бы ничего: ни Фонда, ни «Сеанса», ни «Блокады». Ира потрясающий фотограф и оператор, а потому всегда «за кадром». В общем, здесь у меня тоже «мои» есть: дети и ученики, которые тоже мои дети и моя семья. Это – великое счастье.
– Так не задумывалось, но так получилось. И из него главные сотрудники и главные авторы навсегда не уходят за редчайшими исключениями.
– Откуда в твоей жизни взялась Гном?
– Гном (Ирина Штрих) написала мне письмо в 2012 году, после просмотра фильма «Антон тут рядом». Таких писем в тот год я получала очень много, не успевала отвечать. Но через полгода, когда я уже начала создавать фонд («Выход в Санкт-Петербурге»), написала ей. С тех пор мы всегда вместе. Без нее не было бы ничего: ни Фонда, ни «Сеанса», ни «Блокады». Ира потрясающий фотограф и оператор, а потому всегда «за кадром». В общем, здесь у меня тоже «мои» есть: дети и ученики, которые тоже мои дети и моя семья. Это – великое счастье.
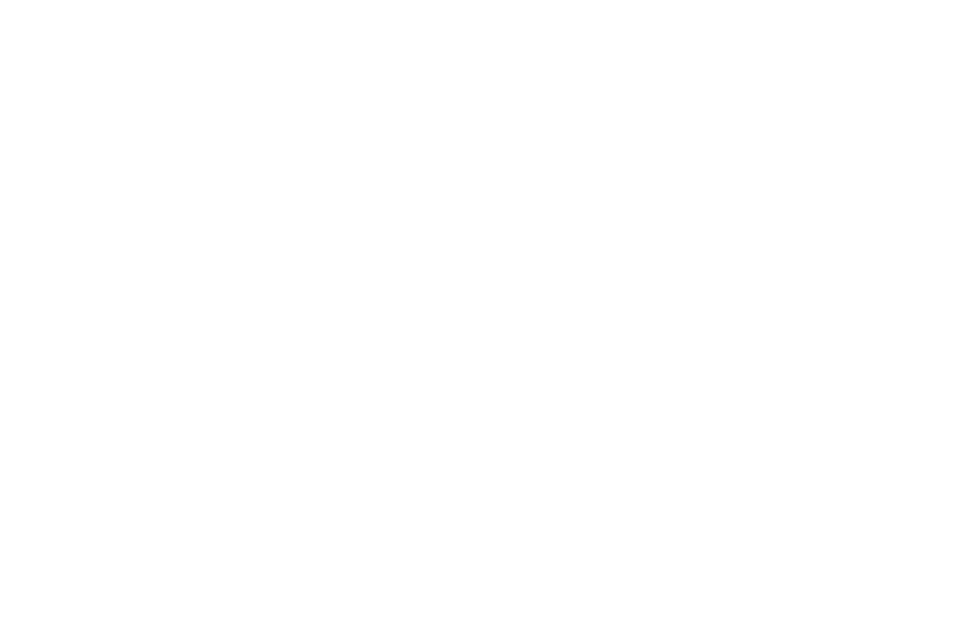
Любовь Аркус и ее знаменитый Гном (Ирина Штрих), 2018 год
За три месяца до интервью
– А ты понимаешь, что именно ты переменила вектор истории с обезболиванием в Питере?
– Кать, я тут ни при чем. Этим занимаются другие люди, – бурчит Аркус. Она не в настроении: дурацкое самочувствие, экстремально короткие световые дни, миллион дел, на которые нет времени. И Блокада. Точнее, фильм о Блокаде: человек, который однажды по-серьезному ввязывается во что-то, связанное с изучением Блокады, уже никогда не будет прежним. Я не знаю, что задумывала снять Любовь Аркус. Но знаю, что, погрузившись в эти материалы, она сняла болезненный и сложный детектив про несколько секунд кинохроники и их автора, зафиксировавшего боль, отчаяние и бессилие, – единственного кинохроника самой страшной зимы 1941-42-го.
Всю зиму Аркус сидит в архивах, смотрит обрывки кинопленок, сверяет, сопоставляет, расспрашивает, разузнает. И сама не замечает, как огромная свинцовая усталость наваливается на нее, потому что всех ее других обычных дел – фонд, журнал, центр, – никто не отменял.
– До истории с болезнью и болью твоей мамы считалось, что с обезболиванием в Питере все о'кей, чиновники знают все проблемы и держат их на контроле. И доказать обратное лично у меня не получалось.
– Кать, я тут ни при чем. Этим занимаются другие люди, – бурчит Аркус. Она не в настроении: дурацкое самочувствие, экстремально короткие световые дни, миллион дел, на которые нет времени. И Блокада. Точнее, фильм о Блокаде: человек, который однажды по-серьезному ввязывается во что-то, связанное с изучением Блокады, уже никогда не будет прежним. Я не знаю, что задумывала снять Любовь Аркус. Но знаю, что, погрузившись в эти материалы, она сняла болезненный и сложный детектив про несколько секунд кинохроники и их автора, зафиксировавшего боль, отчаяние и бессилие, – единственного кинохроника самой страшной зимы 1941-42-го.
Всю зиму Аркус сидит в архивах, смотрит обрывки кинопленок, сверяет, сопоставляет, расспрашивает, разузнает. И сама не замечает, как огромная свинцовая усталость наваливается на нее, потому что всех ее других обычных дел – фонд, журнал, центр, – никто не отменял.
– До истории с болезнью и болью твоей мамы считалось, что с обезболиванием в Питере все о'кей, чиновники знают все проблемы и держат их на контроле. И доказать обратное лично у меня не получалось.
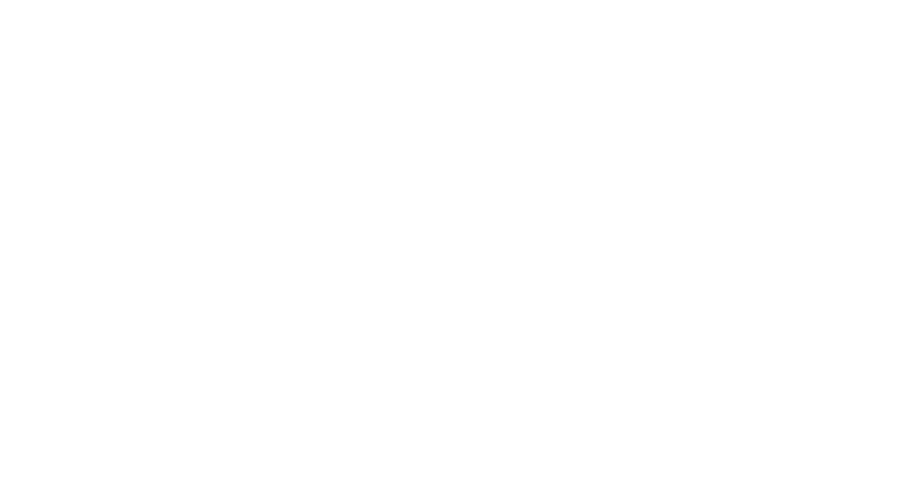
Рината Харитонова, кадр из фильма "Антон тут рядом"
– До моей мамы была Ринаточка, мама Антона. Сюжет обезболивания и паллиативной помощи появился в моей жизни летом 2010 года, когда у меня на руках оказались они оба – Антон и Рината, у которой был рак. Ей сделали две трансплантации, наступила ремиссия, она помолодела, похорошела, расцвела. И вдруг я услышала из ее комнаты на даче сдавленный крик. Сделали КТ, обнаружилась опухоль на крестце.
Лето, аномальная жара, помнишь, когда в Подмосковье леса горели? В Питере не горели, но было жарко. Больница Ринаты – в коллективном отпуске «на проветривании», и Песочная тоже, и 31-я больница тоже. И районный онколог в отпуске. И скорая не обезболивает, нет назначения. Мы с Костей Шавловским возили ее по городу, от дверей к дверям. Рината кричала, скорчившись на заднем сидении машины.
В онкодиспансере на Березовой собрались тем летом, мне кажется, все больные со всего города. Вот когда я увидела подлинный ад. Больные, их родственники, огромная очередь в регистратуру, к каждому кабинету, у входа на улице. Им все хамят. Все отфутболивают. И нас отфутболили. Только после звонка Алексея Юрьевича Германа через неделю Ринату взяли в стационар. Как мы эту неделю прожили, я не знаю.
Потом, спустя несколько лет, заболел мой близкий друг, в сущности, родственник, Владимир Валуцкий. Классик. Автор более 60 фильмов. Муж Аллы Демидовой. И что ты думаешь? Пока было лечение, все ничего. Но когда наступила 4-я стадия, метастазы везде, организм на химию не отвечает, он оказался медициной брошен – так же, как и Рината. Разницы нет. Я писала письма врачам, умоляла их просто прийти к нему. Они отвечали мне, что не знают, чем помочь. Если бы не Нюта, не Первый хоспис, я не знаю, что бы мы делали. Ему, задыхающемуся, наладили дыхание, обезболили, успокоили.
– Мама была потом?
– Потом. Знаешь, когда она умирала, приходил из поликлиники врач, который даже не смотрел на нее, а смотрел куда-то вбок или в окно и скучным голосом говорил: «А что вы хотите? Она умирает». На это я отвечала: «Я хочу, чтобы ей было легче». «Как ей может быть легче, когда она умирает?» – спрашивал меня врач.
Но до этого я полтора месяца ежедневно была в Первом московском городском хосписе со своим другом Володей Валуцким, видела, как там все устроено, и знала, что можно сделать, чтобы человек не мучился или мучился гораздо меньше. Врач из поликлиники говорил: «Мы можем предложить вам больницу». – «А что будет в больнице?» – «Ничего. Просто вам будет легче». Но я не хотела, чтобы мне было легче. Я хотела, чтобы легче было маме. И друзья доставали мне лекарства, а Диана Владимировна Невзорова [главный внештатный специалист Минздрава России по паллиативной помощи] ежедневно по телефону инструктировала меня и сиделку обо всех тонкостях ухода за умирающим человеком.
И я никогда этого не забуду. Но когда мама уже ушла, я подумала о том, что было бы со мной, если бы я не была Любой Аркус, а была бы учительницей начальной школы или водителем трамвая и у меня бы не было таких друзей?
– Ты привлекла к проблеме внимание, что хотя бы что-то сдвинуло с мертвой точки.
– Не надо преувеличивать мою роль в истории: история с моей мамой стала примерно таким же триггером для ситуации с паллиативной помощью в Петербурге, как и трагедия семьи генерала Апанасенко, самоубийство которого сдвинуло с мертвой точки глобально историю с обезболиванием в стране. Не само самоубийство, а родственники, которые не молчали, и Нюта Федермессер, действия которой стали гораздо более эффективными.
Моя роль только в том, что я не молчала, мы устроили первую пресс-конференцию по теме обезболивания – вместе с Нютой, Леной Грачевой, Таней Друбич, Ильей Фоминцевым, с участием врачей и чиновников. А проект «Паллиативная помощь в Петербурге» – это заслуга фондов «Вера» и «АдВита» и конкретно Нюты Федермессер и Кати Овсянниковой. А ты все время пытаешься добраться до моего личного, ты хочешь через это посмотреть на все, чем я занимаюсь, да? Я так не хочу. И поэтому я не хочу интервью.
Лето, аномальная жара, помнишь, когда в Подмосковье леса горели? В Питере не горели, но было жарко. Больница Ринаты – в коллективном отпуске «на проветривании», и Песочная тоже, и 31-я больница тоже. И районный онколог в отпуске. И скорая не обезболивает, нет назначения. Мы с Костей Шавловским возили ее по городу, от дверей к дверям. Рината кричала, скорчившись на заднем сидении машины.
В онкодиспансере на Березовой собрались тем летом, мне кажется, все больные со всего города. Вот когда я увидела подлинный ад. Больные, их родственники, огромная очередь в регистратуру, к каждому кабинету, у входа на улице. Им все хамят. Все отфутболивают. И нас отфутболили. Только после звонка Алексея Юрьевича Германа через неделю Ринату взяли в стационар. Как мы эту неделю прожили, я не знаю.
Потом, спустя несколько лет, заболел мой близкий друг, в сущности, родственник, Владимир Валуцкий. Классик. Автор более 60 фильмов. Муж Аллы Демидовой. И что ты думаешь? Пока было лечение, все ничего. Но когда наступила 4-я стадия, метастазы везде, организм на химию не отвечает, он оказался медициной брошен – так же, как и Рината. Разницы нет. Я писала письма врачам, умоляла их просто прийти к нему. Они отвечали мне, что не знают, чем помочь. Если бы не Нюта, не Первый хоспис, я не знаю, что бы мы делали. Ему, задыхающемуся, наладили дыхание, обезболили, успокоили.
– Мама была потом?
– Потом. Знаешь, когда она умирала, приходил из поликлиники врач, который даже не смотрел на нее, а смотрел куда-то вбок или в окно и скучным голосом говорил: «А что вы хотите? Она умирает». На это я отвечала: «Я хочу, чтобы ей было легче». «Как ей может быть легче, когда она умирает?» – спрашивал меня врач.
Но до этого я полтора месяца ежедневно была в Первом московском городском хосписе со своим другом Володей Валуцким, видела, как там все устроено, и знала, что можно сделать, чтобы человек не мучился или мучился гораздо меньше. Врач из поликлиники говорил: «Мы можем предложить вам больницу». – «А что будет в больнице?» – «Ничего. Просто вам будет легче». Но я не хотела, чтобы мне было легче. Я хотела, чтобы легче было маме. И друзья доставали мне лекарства, а Диана Владимировна Невзорова [главный внештатный специалист Минздрава России по паллиативной помощи] ежедневно по телефону инструктировала меня и сиделку обо всех тонкостях ухода за умирающим человеком.
И я никогда этого не забуду. Но когда мама уже ушла, я подумала о том, что было бы со мной, если бы я не была Любой Аркус, а была бы учительницей начальной школы или водителем трамвая и у меня бы не было таких друзей?
– Ты привлекла к проблеме внимание, что хотя бы что-то сдвинуло с мертвой точки.
– Не надо преувеличивать мою роль в истории: история с моей мамой стала примерно таким же триггером для ситуации с паллиативной помощью в Петербурге, как и трагедия семьи генерала Апанасенко, самоубийство которого сдвинуло с мертвой точки глобально историю с обезболиванием в стране. Не само самоубийство, а родственники, которые не молчали, и Нюта Федермессер, действия которой стали гораздо более эффективными.
Моя роль только в том, что я не молчала, мы устроили первую пресс-конференцию по теме обезболивания – вместе с Нютой, Леной Грачевой, Таней Друбич, Ильей Фоминцевым, с участием врачей и чиновников. А проект «Паллиативная помощь в Петербурге» – это заслуга фондов «Вера» и «АдВита» и конкретно Нюты Федермессер и Кати Овсянниковой. А ты все время пытаешься добраться до моего личного, ты хочешь через это посмотреть на все, чем я занимаюсь, да? Я так не хочу. И поэтому я не хочу интервью.
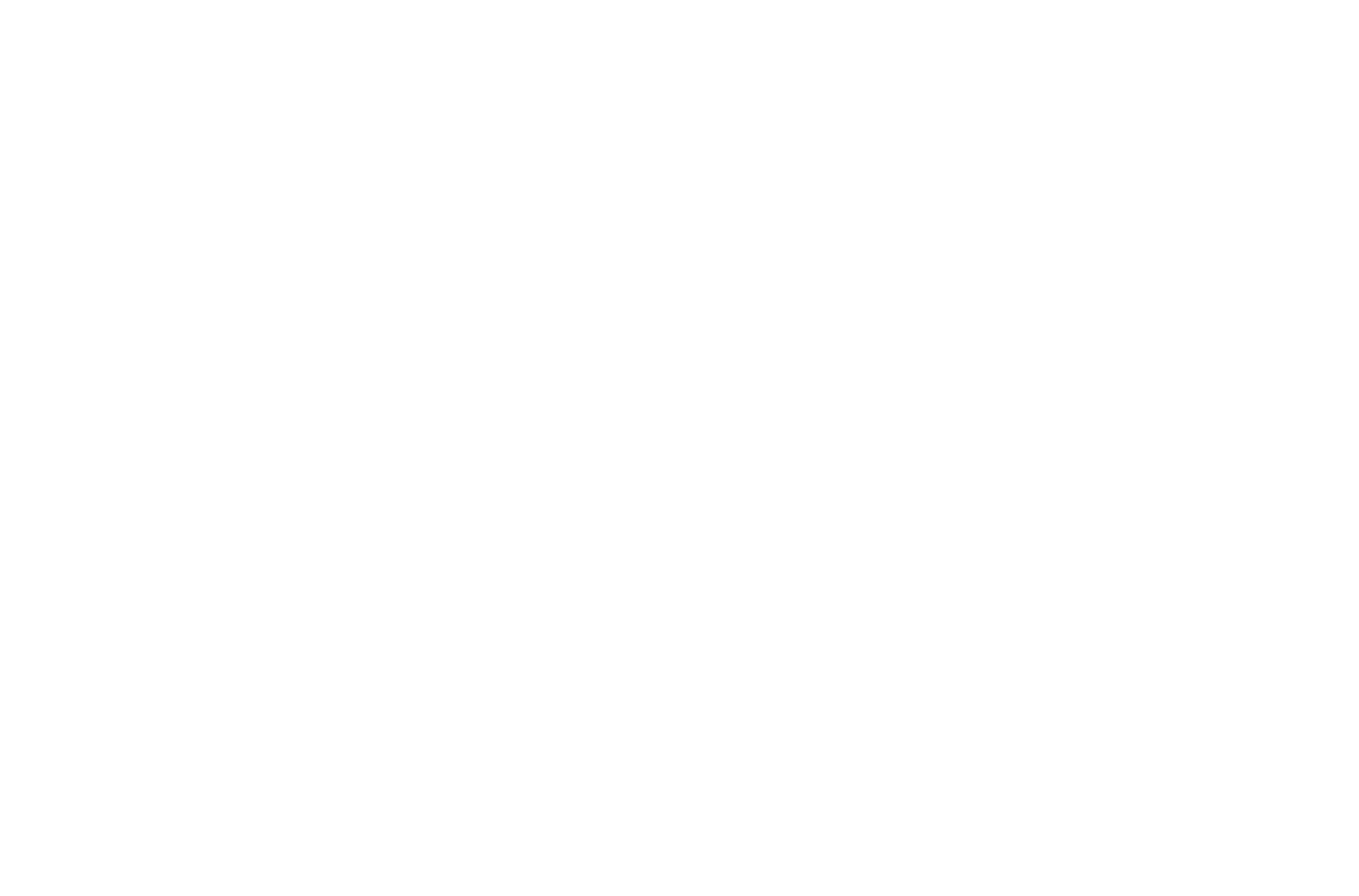
После первой конференции по паллиативной помощи в Петербурге. Любовь Аркус с Ильей Фоминцевым, Нютой Федермессер, Еленой Грачевой, Татьяной Друбич. Май 2017 года
Мы идем по снегу, глядя вперед, перед собой. Это важно: улицы этой зимой такие скользкие, наледи так много, что только и слышишь, как кто-то очередной сломал руку или ногу или просто упал в этом Петербурге 19-го года. 2019-го.
С другой стороны, пес его знает, что на этих улицах творилось двадцать-двадцать пять лет назад. И уж точно в это время никто не вел разговоры ни про людей с аутизмом, ни про обезболивание. Я советуюсь с Аркус: «Согласись, многие вопросы, которые нам сейчас кажутся наиважнейшими, еще 20 лет назад, в 90-е, просто не возникали. Просто не были сформулированы: ни про обезболивание, ни про аутизм».
– Ты думаешь? – оборачивается она, остановившись.
– Я об этом думаю.
– Я так не думаю. Леша [Балабанов] сделал «Брата» такого, какого сделал – по вынужденности, а если бы у него были бы бОльшие возможности, не знаем, получилось бы или нет. Не было денег тогда в стране вообще на кино, а тем более – у независимой студии, которая была про искусство, а не про распил. На задворках «Ленфильма» Леша с Михалычем [Сельяновым] сидели в небольшой комнатке друг напротив друга как каменные истуканы – это и называлось компания СТВ. Иногда они цокали языком, качали головами и кивали друг другу, на что – непонятно. Когда я приходила, кто-то из них дружелюбно говорил: «Садись». Я садилась. Через какое-то время говорила: «Парни, давно молчим?» Примерно в это время появился «Брат», который был снят за две копейки. Уверена, что немыслимая энергия фильма – это их энергия невозможного преодоления.
– Как в твоей жизни появился Балабанов?
– За него замуж вышла моя подруга Надька [художник Надежда Васильева]. И он мне поначалу ужасно не понравился – я решила терпеть его ради Надьки. А потом я посмотрела «Счастливые дни» и решила, что Леша – гений. Кстати, «Брата» я поняла не сразу. После премьеры на «Кинотавре», когда зал встречал аплодисментами слова про «гниду чернож**ую», я, что со мной бывает, ослепла от гнева и наехала на них с Сельяновым страшно. Балабанов молчал. А Сельянов сказал: «Любаня, иди, опомнись. Мы на тебя не сердимся». Через три года Леша мне позвонил, попросил посмотреть монтаж «Реки» – фильма, на съемках которого у него погибла актриса Туйара Свинобоева, игравшая главную роль. А потом был Кармадон. После «Реки» и тем более Кармадона у нас с Балабановым была уже не просто дружба, а настоящее братство.
С другой стороны, пес его знает, что на этих улицах творилось двадцать-двадцать пять лет назад. И уж точно в это время никто не вел разговоры ни про людей с аутизмом, ни про обезболивание. Я советуюсь с Аркус: «Согласись, многие вопросы, которые нам сейчас кажутся наиважнейшими, еще 20 лет назад, в 90-е, просто не возникали. Просто не были сформулированы: ни про обезболивание, ни про аутизм».
– Ты думаешь? – оборачивается она, остановившись.
– Я об этом думаю.
– Я так не думаю. Леша [Балабанов] сделал «Брата» такого, какого сделал – по вынужденности, а если бы у него были бы бОльшие возможности, не знаем, получилось бы или нет. Не было денег тогда в стране вообще на кино, а тем более – у независимой студии, которая была про искусство, а не про распил. На задворках «Ленфильма» Леша с Михалычем [Сельяновым] сидели в небольшой комнатке друг напротив друга как каменные истуканы – это и называлось компания СТВ. Иногда они цокали языком, качали головами и кивали друг другу, на что – непонятно. Когда я приходила, кто-то из них дружелюбно говорил: «Садись». Я садилась. Через какое-то время говорила: «Парни, давно молчим?» Примерно в это время появился «Брат», который был снят за две копейки. Уверена, что немыслимая энергия фильма – это их энергия невозможного преодоления.
– Как в твоей жизни появился Балабанов?
– За него замуж вышла моя подруга Надька [художник Надежда Васильева]. И он мне поначалу ужасно не понравился – я решила терпеть его ради Надьки. А потом я посмотрела «Счастливые дни» и решила, что Леша – гений. Кстати, «Брата» я поняла не сразу. После премьеры на «Кинотавре», когда зал встречал аплодисментами слова про «гниду чернож**ую», я, что со мной бывает, ослепла от гнева и наехала на них с Сельяновым страшно. Балабанов молчал. А Сельянов сказал: «Любаня, иди, опомнись. Мы на тебя не сердимся». Через три года Леша мне позвонил, попросил посмотреть монтаж «Реки» – фильма, на съемках которого у него погибла актриса Туйара Свинобоева, игравшая главную роль. А потом был Кармадон. После «Реки» и тем более Кармадона у нас с Балабановым была уже не просто дружба, а настоящее братство.
– Сельянов решил стать продюсером именно из-за Балабанова?
– У меня есть фотография, сделанная в тот момент, когда Сельянов решил стать продюсером. Он ведь хотел быть режиссером и был им. Какое-то время был и тем и другим. А потом сделал выбор.
– Я люблю и «День ангела», и «Духов день» его с Шевчуком. Как думаешь, если бы он продолжал, он был бы хорошим режиссером?
– Я думаю, что Сережа был не меньшим режиссером, чем Балабанов. Он сделал свой выбор в пользу Балабанова. Он никогда этого не скажет. Мне иногда кажется, что сейчас, когда Леши нет, он вообще разлюбил кино – ему стало неинтересно.
– В каком-то смысле ты ненастоящий кинокритик и киновед: ты вовлечена в отношения с режиссерами и артистами, со сценаристами и продюсерами, что, разумеется, мешает тебе быть объективной. Но ты еще и режиссер. Это реально совмещать?
– Кать, знаешь, я уже давно не понимаю, кто я. Один фильм, даже хороший – это не режиссер. Человек, который делает журнал о кино 30 лет, но давно не пишет в него тексты – это не кинокритик. А человек, который основал первый в стране центр помощи взрослым людям с аутизмом, но по-прежнему, как и 10 лет назад, ни в чем не уверен и никакие методы помощи не считает эффективными – это опять неизвестно что. Я все время ничего не успеваю и всегда перед всеми виновата.
Мы стоим в промозглом коридоре питерского университета за несколько минут до начала встречи Аркус со зрителями. Я ногтем ковыряю лед на стекле, Люба хлопает себя по карманам, нащупывает сигареты. В помещении нельзя курить. Она просто хочет удостовериться: пачка на месте. Когда она захочет, пойдет и покурит.
В каком-то смысле, делать то, что хочешь – это и есть свобода. Но Аркус устроена таким образом, что она хочет как будто слишком многого. И по-детски расстраивается, если что-то из задуманного вдруг получается не самым лучшим способом из возможных. Тогда она возвращается и переделывает. Тратит все силы, убивается, но добивается того, чтобы дело было сделано самым наилучшим способом.
Я смотрю на нее и думаю, что вот это неумение жить вполсилы однажды ее угробит. Еще – вспоминаю о том, что за то время, пока Аркус вытаскивала своего Антона, будущего главного героя своего первого документального фильма, из ПНИ, она три раза лежала в реанимации. Высокая ли это цена за свободу Антона? Высокая ли – за фильм? Достаточная ли, чтобы потом, вслед за фильмом появился Центр «Антон тут рядом», где людей с аутизмом и другими ментальными особенностями обучают ремеслу, умению общаться, заботиться о себе, короче, жить как все. Где для таких людей создан театр, оркестр, летние лагеря, мастерские, квартиры сопровождаемого проживания. Первым жильцом первой такой питерской квартиры стал, кстати, Антон из фильма Аркус. Все закольцовывается.
– У меня есть фотография, сделанная в тот момент, когда Сельянов решил стать продюсером. Он ведь хотел быть режиссером и был им. Какое-то время был и тем и другим. А потом сделал выбор.
– Я люблю и «День ангела», и «Духов день» его с Шевчуком. Как думаешь, если бы он продолжал, он был бы хорошим режиссером?
– Я думаю, что Сережа был не меньшим режиссером, чем Балабанов. Он сделал свой выбор в пользу Балабанова. Он никогда этого не скажет. Мне иногда кажется, что сейчас, когда Леши нет, он вообще разлюбил кино – ему стало неинтересно.
– В каком-то смысле ты ненастоящий кинокритик и киновед: ты вовлечена в отношения с режиссерами и артистами, со сценаристами и продюсерами, что, разумеется, мешает тебе быть объективной. Но ты еще и режиссер. Это реально совмещать?
– Кать, знаешь, я уже давно не понимаю, кто я. Один фильм, даже хороший – это не режиссер. Человек, который делает журнал о кино 30 лет, но давно не пишет в него тексты – это не кинокритик. А человек, который основал первый в стране центр помощи взрослым людям с аутизмом, но по-прежнему, как и 10 лет назад, ни в чем не уверен и никакие методы помощи не считает эффективными – это опять неизвестно что. Я все время ничего не успеваю и всегда перед всеми виновата.
Мы стоим в промозглом коридоре питерского университета за несколько минут до начала встречи Аркус со зрителями. Я ногтем ковыряю лед на стекле, Люба хлопает себя по карманам, нащупывает сигареты. В помещении нельзя курить. Она просто хочет удостовериться: пачка на месте. Когда она захочет, пойдет и покурит.
В каком-то смысле, делать то, что хочешь – это и есть свобода. Но Аркус устроена таким образом, что она хочет как будто слишком многого. И по-детски расстраивается, если что-то из задуманного вдруг получается не самым лучшим способом из возможных. Тогда она возвращается и переделывает. Тратит все силы, убивается, но добивается того, чтобы дело было сделано самым наилучшим способом.
Я смотрю на нее и думаю, что вот это неумение жить вполсилы однажды ее угробит. Еще – вспоминаю о том, что за то время, пока Аркус вытаскивала своего Антона, будущего главного героя своего первого документального фильма, из ПНИ, она три раза лежала в реанимации. Высокая ли это цена за свободу Антона? Высокая ли – за фильм? Достаточная ли, чтобы потом, вслед за фильмом появился Центр «Антон тут рядом», где людей с аутизмом и другими ментальными особенностями обучают ремеслу, умению общаться, заботиться о себе, короче, жить как все. Где для таких людей создан театр, оркестр, летние лагеря, мастерские, квартиры сопровождаемого проживания. Первым жильцом первой такой питерской квартиры стал, кстати, Антон из фильма Аркус. Все закольцовывается.
Правда, неизвестно, стоит ли это еще трех раз, которые с тех пор Аркус оказывалась в реанимации. Я смотрю на нее и думаю о несоразмерности этой маленькой женщины, ее привычки ввязываться во всевозможные битвы добра со злом, ее непрекращающегося кашля и дел, которые она взялась делать. В этот момент Аркус тоже думает о несоразмерности.
– Я вот все время думаю о несоразмерности труда: даже плохой режиссер тратит на фильм два года минимум, а бывает, что и три, четыре, пять. А критик на статью? Критик – от двух часов до нескольких дней. Ну несколько дней – это критик-перфекционист. Как это можно соизмерить? Годы адских мучений, сомнений – получится или нет. И какой-то человек, который сел, расчехлил ноутбук и написал заметку.
Ты знаешь, Катя, у меня в разное время были разные учителя. Но главным – была все-таки Майя Иосифовна Туровская. Я еще во Львове ее книжки почему-то переписывала в тетрадку. В чем был смысл этих действий – я не понимаю до сих пор, но переписывала аккуратно, страницу за страницей. Меня абсолютно завораживало, как устроены ее тексты. Они были не про кино и не про театр. Майя сама в предисловии к одной своей книге написала: «Киновед, как и всякий пишущий человек, пишет о жизни».
Когда я поступила во ВГИК с третьего раза, очень быстро поняла, что профессии меня тут никто учить не будет. Киноведческий факультет был таким пансионом благородных девиц. Со мной учились прекрасные, воздушные девочки из хороших и статусных московских семей. А мне надо было профессию. И однажды я нашла в справочнике Союза кинематографистов телефон Туровской и позвонила ей из телефона-автомата, который был установлен в общежитии.
Она очень удивилась этому звонку и сказала, что никого никогда не учила и не намерена заниматься этим в дальнейшем. Но я была настойчива, и когда я предложила ей в обмен на свое обучение свои услуги как машинистки, курьера и домработницы, она рассмеялась и сказала: «Ну хорошо. Вы можете ко мне приходить и показывать то, что вы пишете. Мы будем это обсуждать – но не более того».
Спустя очень короткое время она стала моим настоящим учителем и вообще моей второй мамой. Майя научила меня самому главному – как устроен текст. А через него – как устроена мысль, ее драматургия. А через это – как устроено любое понимание чего бы то ни было, если ты хочешь его добыть или хотя бы отчасти добыть, сколько сможешь. Она вообще научила меня этому понятию – добыча, то есть огромный труд по проникновению во что-то. А далее – по тому, как все это собрать и пересобрать.
Я не говорю тебе, что у меня все это получается, а говорю про интенцию, которой она меня научила. Про то, что во всем нужно сверхусилие. Про то, что если ты хочешь добиться хотя бы малого – ты должен замахнуться на что-то очень большое. Про то, что профессия – это пот и кровь, а потом уже все остальное. У нее были еще очень важные технологические уроки, которые я потом старательно и дословно передавала своим ученикам.
– Я вот все время думаю о несоразмерности труда: даже плохой режиссер тратит на фильм два года минимум, а бывает, что и три, четыре, пять. А критик на статью? Критик – от двух часов до нескольких дней. Ну несколько дней – это критик-перфекционист. Как это можно соизмерить? Годы адских мучений, сомнений – получится или нет. И какой-то человек, который сел, расчехлил ноутбук и написал заметку.
Ты знаешь, Катя, у меня в разное время были разные учителя. Но главным – была все-таки Майя Иосифовна Туровская. Я еще во Львове ее книжки почему-то переписывала в тетрадку. В чем был смысл этих действий – я не понимаю до сих пор, но переписывала аккуратно, страницу за страницей. Меня абсолютно завораживало, как устроены ее тексты. Они были не про кино и не про театр. Майя сама в предисловии к одной своей книге написала: «Киновед, как и всякий пишущий человек, пишет о жизни».
Когда я поступила во ВГИК с третьего раза, очень быстро поняла, что профессии меня тут никто учить не будет. Киноведческий факультет был таким пансионом благородных девиц. Со мной учились прекрасные, воздушные девочки из хороших и статусных московских семей. А мне надо было профессию. И однажды я нашла в справочнике Союза кинематографистов телефон Туровской и позвонила ей из телефона-автомата, который был установлен в общежитии.
Она очень удивилась этому звонку и сказала, что никого никогда не учила и не намерена заниматься этим в дальнейшем. Но я была настойчива, и когда я предложила ей в обмен на свое обучение свои услуги как машинистки, курьера и домработницы, она рассмеялась и сказала: «Ну хорошо. Вы можете ко мне приходить и показывать то, что вы пишете. Мы будем это обсуждать – но не более того».
Спустя очень короткое время она стала моим настоящим учителем и вообще моей второй мамой. Майя научила меня самому главному – как устроен текст. А через него – как устроена мысль, ее драматургия. А через это – как устроено любое понимание чего бы то ни было, если ты хочешь его добыть или хотя бы отчасти добыть, сколько сможешь. Она вообще научила меня этому понятию – добыча, то есть огромный труд по проникновению во что-то. А далее – по тому, как все это собрать и пересобрать.
Я не говорю тебе, что у меня все это получается, а говорю про интенцию, которой она меня научила. Про то, что во всем нужно сверхусилие. Про то, что если ты хочешь добиться хотя бы малого – ты должен замахнуться на что-то очень большое. Про то, что профессия – это пот и кровь, а потом уже все остальное. У нее были еще очень важные технологические уроки, которые я потом старательно и дословно передавала своим ученикам.
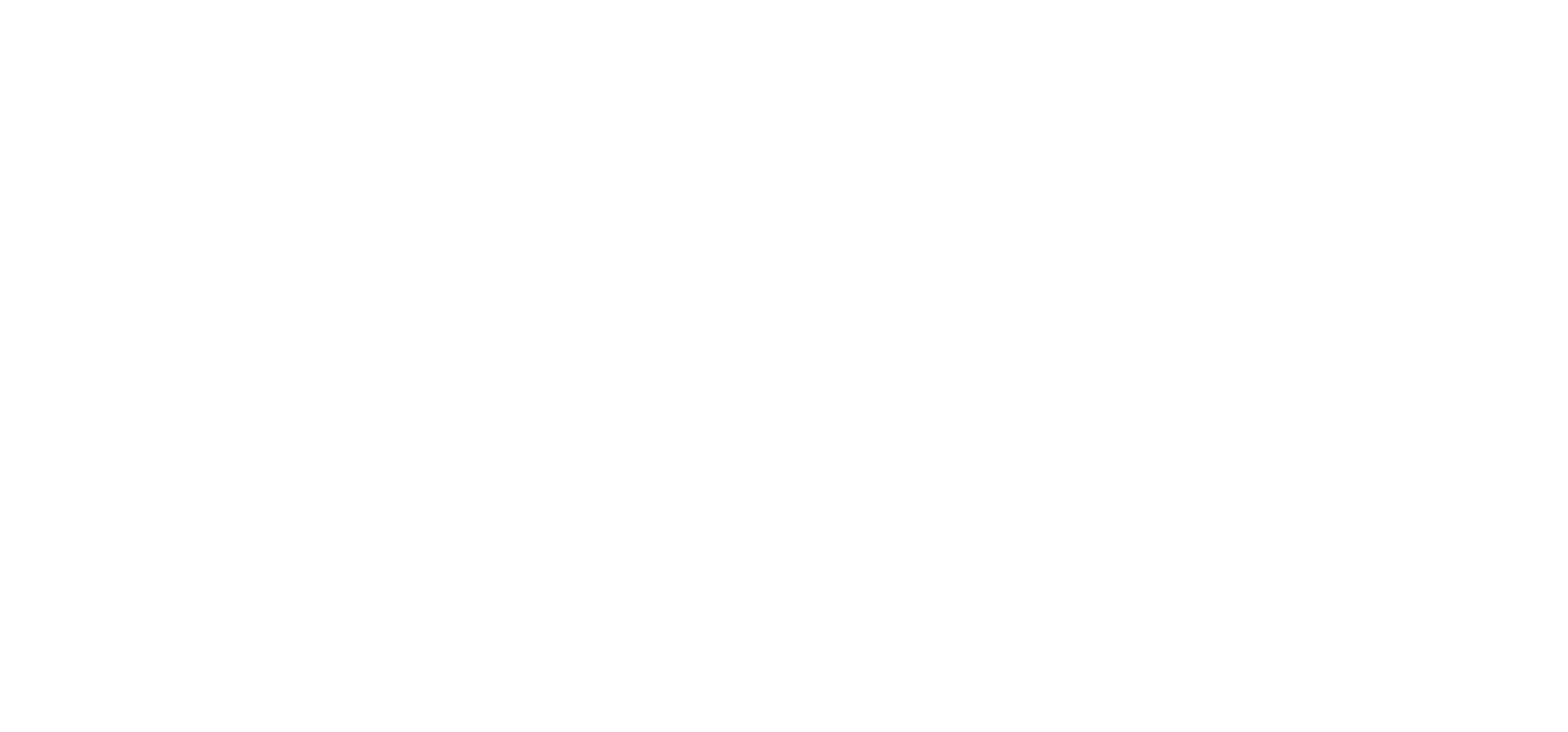
Любовь Аркус и Майя Туровская, Мюнхен, 2016 год
Майя Иосифовна Туровская
Майя Иосифовна Туровская
Аркус вдруг поднимает голову и беззащитно спрашивает: «Это не интервью?» Мы идем, скрипя снегом, по тихому Петербургу. Туристы с хохотом и визгом катаются по замерзшей Фонтанке. Хочется – как они. Но у Аркус – встреча в фонде, потом летучка в журнале. Потом надо заехать в Центр – там кто-то читает лекцию в пользу «Антон тут рядом». И мы идем вдоль набережной, скрипя снегом, посматривая на туристов.
– Как ты переехала в Ленинград?
– Ленинград был для меня бесприютным, стылым городом. Это было в самое макабрическое советское время, на фоне бесконечных похорон генсеков. Я вышла замуж за гениального человека, Олега Ковалова, киноведа и диссидента, впоследствии режиссера. Мне было 22 года.
Из его рук я прочитала всего Солженицына, «Верного Руслана» Владимова, «Весну в Фиальте» Набокова. Но главное, что Ковалов оказался тем человеком, который может ответить на все мои вопросы к миру. А вопросов у меня было множество. Олег работал на «Ленфильме» редактором. Позвал его туда Илья Авербах. И поначалу все было хорошо. Но даже для сверхлиберального «Ленфильма» он со своими высказываниями и редакторскими предложениями был абсолютно неудобоварим.
Однажды на худсовете по поводу фильма «Уникум» Виталия Мельникова в присутствии всегдашнего соглядатая из обкома партии Олег, в ответ на критику фильма, вдруг стал доказывать всем присутствующим, что фильм прекрасный, а смысл его в том, что советский народ – спит. «Это оппозиция», – жарко объяснял Ковалов собранию к ужасу режиссера. Побелевший Виталий Мельников спросил на выходе у главного редактора студии Фрижетты Гукасян: «Откуда у нас взялся этот стукачок?»
Завершением карьеры Ковалова стала история с фильмом «Скорбное бесчувствие» Сокурова – после решения закрыть картину и положить ее на полку он отправился в самовольную командировку в Госкино, доказывать тамошним начальникам, что Сокуров гений, а закрывать картину – преступление. Его, конечно, не пустили дальше приемной, но на студию позвонили. И Ковалов был уволен.
Потом мы скитались, снимая какие-то углы и комнаты. Денег не было вообще, а у нас с Коваловым родился ребенок. До начала перестройки, когда все изменилось, оставался год. Мы прожили его, абсолютно не видя своего будущего, как будто в каменном мешке. Тогда невозможно было себе представить, что Олег сделает прекрасные фильмы, у меня будет журнал, у нас появится дом.
– До переезда в Ленинград ты была литературным секретарем писателя Виктора Шкловского. Как это на тебя повлияло?
– Ты хочешь, чтобы я ответила одним словом? – Аркус смеется.
Разумеется, о Шкловском надо делать отдельное интервью. Но она мне никакого не дает. В этих обрывках разговоров приходится, извернувшись, включать диктофон и спрашивать обо всем понемногу.
– Как ты переехала в Ленинград?
– Ленинград был для меня бесприютным, стылым городом. Это было в самое макабрическое советское время, на фоне бесконечных похорон генсеков. Я вышла замуж за гениального человека, Олега Ковалова, киноведа и диссидента, впоследствии режиссера. Мне было 22 года.
Из его рук я прочитала всего Солженицына, «Верного Руслана» Владимова, «Весну в Фиальте» Набокова. Но главное, что Ковалов оказался тем человеком, который может ответить на все мои вопросы к миру. А вопросов у меня было множество. Олег работал на «Ленфильме» редактором. Позвал его туда Илья Авербах. И поначалу все было хорошо. Но даже для сверхлиберального «Ленфильма» он со своими высказываниями и редакторскими предложениями был абсолютно неудобоварим.
Однажды на худсовете по поводу фильма «Уникум» Виталия Мельникова в присутствии всегдашнего соглядатая из обкома партии Олег, в ответ на критику фильма, вдруг стал доказывать всем присутствующим, что фильм прекрасный, а смысл его в том, что советский народ – спит. «Это оппозиция», – жарко объяснял Ковалов собранию к ужасу режиссера. Побелевший Виталий Мельников спросил на выходе у главного редактора студии Фрижетты Гукасян: «Откуда у нас взялся этот стукачок?»
Завершением карьеры Ковалова стала история с фильмом «Скорбное бесчувствие» Сокурова – после решения закрыть картину и положить ее на полку он отправился в самовольную командировку в Госкино, доказывать тамошним начальникам, что Сокуров гений, а закрывать картину – преступление. Его, конечно, не пустили дальше приемной, но на студию позвонили. И Ковалов был уволен.
Потом мы скитались, снимая какие-то углы и комнаты. Денег не было вообще, а у нас с Коваловым родился ребенок. До начала перестройки, когда все изменилось, оставался год. Мы прожили его, абсолютно не видя своего будущего, как будто в каменном мешке. Тогда невозможно было себе представить, что Олег сделает прекрасные фильмы, у меня будет журнал, у нас появится дом.
– До переезда в Ленинград ты была литературным секретарем писателя Виктора Шкловского. Как это на тебя повлияло?
– Ты хочешь, чтобы я ответила одним словом? – Аркус смеется.
Разумеется, о Шкловском надо делать отдельное интервью. Но она мне никакого не дает. В этих обрывках разговоров приходится, извернувшись, включать диктофон и спрашивать обо всем понемногу.
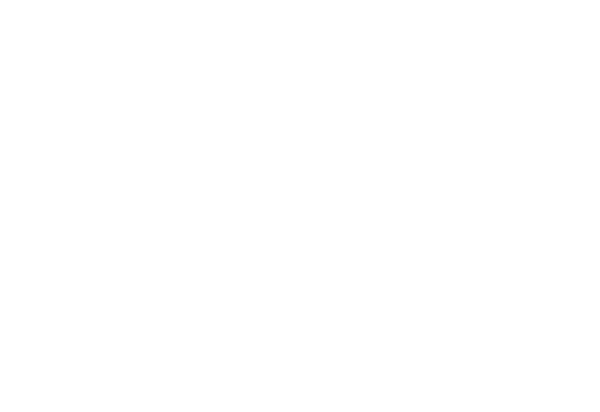
С Виктором Шкловским, 1981 год
– Да, – говорю с вызовом. – Вот попробуй, знаешь, сформулировать в одном предложении.
Задумывается. Смотрит куда-то в сторону. Радостно взмахивает рукой.
– Шкловский написал в «Zоо» [«Zoo, или Письма не о любви»] одну фразу: «Все хорошие слова пребывают в обмороке». Я ее все время вспоминаю. Потому что мы живем в такое время, когда слова больше не означают того, что мы в них вкладываем. Очень трудно прорваться к реальности, нужно победить клише слов и образов, которые перестали означать что-либо. Реальность больше не описывается теми словами, которые были хорошими и правильными еще 30 лет назад. Они как будто испортились, стали фальшивыми – как в анекдоте про фальшивые елочные игрушки, которые ничем не отличаются от настоящих, просто не радуют.
«При Шкловском такого не было», – пытаюсь пошутить. Аркус смотрит на меня как на дуру.
– Как вы познакомились с Германом?
– Мы с Коваловым поднимались по лестнице главного корпуса «Ленфильма», и вдруг я услышала дикий вопль. Даже не вопль, а рев: «Жидовня, жидовская морда, выходи, я убью тебя!» В разных вариациях этот текст повторялся, хорошенько сдобренный обсценной лексикой. Это был мой первый визит на «Ленфильм». Я проработаю здесь всю жизнь, но еще об этом не знаю. Пока у меня преддипломная практика.
О «Ленфильме» я знаю, что это самое интеллигентное, тихое, камерное и уютное, самое интеллигентное место на свете. Услышав это, я замираю. Ковалов дергает меня за руку: «Пойдем». Я шепотом спрашиваю: «Олег, кто это?» Совершенно невозмутимо Ковалов отвечает: «Это Герман». – «А на кого он так кричит?» – «На Арановича», – спокойно отвечает Ковалов. И добавляет: «Ты не волнуйся, это почти каждый день происходит». – «А где Аранович?» – «Заперся в туалете».
Оказывается, именно в этот момент Герман впервые увидел фильм Арановича «Торпедоносцы», в который Аранович, не будь дурак, пригласил всех актеров Германа, собранных им по провинциям для фильма «Начальник опергруппы» – таким было первое название фильма «Мой друг Иван Лапшин».
«Лапшин» был снят и лежал на полке. А «Торпедоносцы» готовились к победоносному шествию по киноэкранам страны. Для Германа было очень важно, что у него сыграли неизвестные актеры, у которых не было никакой экранной биографии до «Лапшина». Поэтому он, конечно, обиделся на своего друга Арановича. Впоследствии они помирились, еще поссорились и еще помирились. Все это происходило очень бурно и на глазах у всей киностудии.
Потом, когда я уже работала редактором на студии, Герман меня заметил и отметил. Я почему-то страшно его забавляла, ему нравился мой смех. Иногда он приходил специально в объединение, широко распахивал дверь и так специально вылупливал на меня свои глаза. Если не удавалось сразу же этим вызвать мой смех, то он показывал мне палец. Я покатывалась, и он уходил страшно довольный собой.
Они с директором студии и впоследствии моим очень близким другом Александром Голутвой вызвали меня и предложили ехать от студии на Высшие режиссерские курсы. Знаешь, Катя, в этот момент я по-настоящему заплакала. Это же была главная мечта моей жизни. Но я должна была отказаться – впервые после долгих мытарств у нас была комната в коммунальной квартире, зарплата, у Нюши был детский сад и детская поликлиника. У меня была семья и ответственность и не было никаких сил начинать все сначала. Мне было 27 лет, а ощущение было такое, что ничего нового по-настоящему быть не может.
Герман, и я это помню, как будто это было вчера, сказал: «Любка, ну ты – чисто клоун. Покажешь палец – смеешься. Скажешь слово – плачешь. И все басом». Потом у нас с Германами было еще много чего: долгие поездки в Репино, его фильмы, мой журнал «Сеанс», в котором он всегда принимал активнейшее участие.
Задумывается. Смотрит куда-то в сторону. Радостно взмахивает рукой.
– Шкловский написал в «Zоо» [«Zoo, или Письма не о любви»] одну фразу: «Все хорошие слова пребывают в обмороке». Я ее все время вспоминаю. Потому что мы живем в такое время, когда слова больше не означают того, что мы в них вкладываем. Очень трудно прорваться к реальности, нужно победить клише слов и образов, которые перестали означать что-либо. Реальность больше не описывается теми словами, которые были хорошими и правильными еще 30 лет назад. Они как будто испортились, стали фальшивыми – как в анекдоте про фальшивые елочные игрушки, которые ничем не отличаются от настоящих, просто не радуют.
«При Шкловском такого не было», – пытаюсь пошутить. Аркус смотрит на меня как на дуру.
– Как вы познакомились с Германом?
– Мы с Коваловым поднимались по лестнице главного корпуса «Ленфильма», и вдруг я услышала дикий вопль. Даже не вопль, а рев: «Жидовня, жидовская морда, выходи, я убью тебя!» В разных вариациях этот текст повторялся, хорошенько сдобренный обсценной лексикой. Это был мой первый визит на «Ленфильм». Я проработаю здесь всю жизнь, но еще об этом не знаю. Пока у меня преддипломная практика.
О «Ленфильме» я знаю, что это самое интеллигентное, тихое, камерное и уютное, самое интеллигентное место на свете. Услышав это, я замираю. Ковалов дергает меня за руку: «Пойдем». Я шепотом спрашиваю: «Олег, кто это?» Совершенно невозмутимо Ковалов отвечает: «Это Герман». – «А на кого он так кричит?» – «На Арановича», – спокойно отвечает Ковалов. И добавляет: «Ты не волнуйся, это почти каждый день происходит». – «А где Аранович?» – «Заперся в туалете».
Оказывается, именно в этот момент Герман впервые увидел фильм Арановича «Торпедоносцы», в который Аранович, не будь дурак, пригласил всех актеров Германа, собранных им по провинциям для фильма «Начальник опергруппы» – таким было первое название фильма «Мой друг Иван Лапшин».
«Лапшин» был снят и лежал на полке. А «Торпедоносцы» готовились к победоносному шествию по киноэкранам страны. Для Германа было очень важно, что у него сыграли неизвестные актеры, у которых не было никакой экранной биографии до «Лапшина». Поэтому он, конечно, обиделся на своего друга Арановича. Впоследствии они помирились, еще поссорились и еще помирились. Все это происходило очень бурно и на глазах у всей киностудии.
Потом, когда я уже работала редактором на студии, Герман меня заметил и отметил. Я почему-то страшно его забавляла, ему нравился мой смех. Иногда он приходил специально в объединение, широко распахивал дверь и так специально вылупливал на меня свои глаза. Если не удавалось сразу же этим вызвать мой смех, то он показывал мне палец. Я покатывалась, и он уходил страшно довольный собой.
Они с директором студии и впоследствии моим очень близким другом Александром Голутвой вызвали меня и предложили ехать от студии на Высшие режиссерские курсы. Знаешь, Катя, в этот момент я по-настоящему заплакала. Это же была главная мечта моей жизни. Но я должна была отказаться – впервые после долгих мытарств у нас была комната в коммунальной квартире, зарплата, у Нюши был детский сад и детская поликлиника. У меня была семья и ответственность и не было никаких сил начинать все сначала. Мне было 27 лет, а ощущение было такое, что ничего нового по-настоящему быть не может.
Герман, и я это помню, как будто это было вчера, сказал: «Любка, ну ты – чисто клоун. Покажешь палец – смеешься. Скажешь слово – плачешь. И все басом». Потом у нас с Германами было еще много чего: долгие поездки в Репино, его фильмы, мой журнал «Сеанс», в котором он всегда принимал активнейшее участие.
– «Сеанс» был очень режиссерским журналом. Вы поддерживали Германа, вы защищали Сокурова. Что было вначале: дружба или журнал?
– Сначала была жизнь. Сокуров снял фильм «Одинокий голос человека», который запрещали и хотели смыть. И который абсолютно перевернул все представление о современном кино не только у меня, но и у всего нашего поколения. Когда Ковалова уволили с «Ленфильма» за защиту Сокурова, я помню, как мы втроем – Олег, Саша и я – едем в метро, переходя с ветки на ветку, и Сокуров рассказывает нам, что за ним – слежка. Они разговаривают друг с другом, а я болтаюсь рядом.
Вообще-то мой диплом – о Сокурове, но я даже боюсь вступить с ним в разговор. А на станции «Василеостровская» я вдруг говорю: «Саша, вы знаете, я не знаю как, почему, но, поверьте мне, все будет скоро совсем иначе, вы будете снимать много-много фильмов, и вы будете знамениты на весь мир». Они оба посмотрели на меня, как на полную идиотку. И что-то там такое каждый из них сказал, чтобы я не сомневалась в своем идиотизме. Я часто напоминаю об этом Сокурову теперь, когда мы о чем-то спорим.
Кстати, диплом о Сокурове у меня во ВГИКе не приняли, был большой скандал. И Ковалов за две ночи настучал какой-то текст, теоретический, с большим количеством никому непонятной терминологии, которым я и защищалась. И вот, Кать, как я могу относиться к Сокурову как к объекту анализа? Как я могу анализировать Германа?
– Сначала была жизнь. Сокуров снял фильм «Одинокий голос человека», который запрещали и хотели смыть. И который абсолютно перевернул все представление о современном кино не только у меня, но и у всего нашего поколения. Когда Ковалова уволили с «Ленфильма» за защиту Сокурова, я помню, как мы втроем – Олег, Саша и я – едем в метро, переходя с ветки на ветку, и Сокуров рассказывает нам, что за ним – слежка. Они разговаривают друг с другом, а я болтаюсь рядом.
Вообще-то мой диплом – о Сокурове, но я даже боюсь вступить с ним в разговор. А на станции «Василеостровская» я вдруг говорю: «Саша, вы знаете, я не знаю как, почему, но, поверьте мне, все будет скоро совсем иначе, вы будете снимать много-много фильмов, и вы будете знамениты на весь мир». Они оба посмотрели на меня, как на полную идиотку. И что-то там такое каждый из них сказал, чтобы я не сомневалась в своем идиотизме. Я часто напоминаю об этом Сокурову теперь, когда мы о чем-то спорим.
Кстати, диплом о Сокурове у меня во ВГИКе не приняли, был большой скандал. И Ковалов за две ночи настучал какой-то текст, теоретический, с большим количеством никому непонятной терминологии, которым я и защищалась. И вот, Кать, как я могу относиться к Сокурову как к объекту анализа? Как я могу анализировать Германа?
За месяц до интервью
– Ты сняла фильм «Антон тут рядом» – и начала делать центр. Ты понимала, что это уведет тебя от кино Бог знает куда?
– После фильма я оказалась на территории, где совсем другие законы – не такие, как в обычной мирной жизни. Потому что я прожила эти годы съемок с родителями, которые не отдали своих детей в интернаты. И доподлинно сама поняла, что это такое – такие дети, как Антон. И насколько преступна система, которая их уничтожает. Когда ты оказываешься на этой территории, нужно засунуть свои страхи и логику обычной жизни подальше, она здесь не работает.
Я говорю и понимаю, что это все звучит как будто слишком красиво. Но никакой красоты в этом нет. Приступы малодушия накрывают тебя постоянно, страх никуда не делся, а чувство вины становится главным фоном твоей жизни, потому что сколько бы ты ни сделал, это всегда будет каплей в море. Вот есть это море – и есть ты.
– После фильма я оказалась на территории, где совсем другие законы – не такие, как в обычной мирной жизни. Потому что я прожила эти годы съемок с родителями, которые не отдали своих детей в интернаты. И доподлинно сама поняла, что это такое – такие дети, как Антон. И насколько преступна система, которая их уничтожает. Когда ты оказываешься на этой территории, нужно засунуть свои страхи и логику обычной жизни подальше, она здесь не работает.
Я говорю и понимаю, что это все звучит как будто слишком красиво. Но никакой красоты в этом нет. Приступы малодушия накрывают тебя постоянно, страх никуда не делся, а чувство вины становится главным фоном твоей жизни, потому что сколько бы ты ни сделал, это всегда будет каплей в море. Вот есть это море – и есть ты.
_______
Ты никогда не сможешь выполнить задач, которые стоят перед тобой. Но ты должен стараться. И никогда не ждать благодарности. И не допускать мысли, что ты живешь правильно и что ты молодец.
Ты никогда не сможешь выполнить задач, которые стоят перед тобой. Но ты должен стараться. И никогда не ждать благодарности. И не допускать мысли, что ты живешь правильно и что ты молодец.
– Сейчас, спустя несколько лет, что для тебя важнее – фонд, «Сеанс» или кино, которое ты должна снять?
– Хочешь меня убить – повтори этот вопрос.
– Хочешь меня убить – повтори этот вопрос.
«Между человеком социальным и человеком сокровенным». Интервью
Где-то там, далеко на юге, в апреле распускаются листки, расцветает вишня или абрикосы, – что на юге цветет первым? В Санкт-Петербурге в апреле кое-где еще лежит снег. В этом году весна – ранняя. И с сухим хрустом ломается лед в Фонтанке. Ломается и плывет к Неве. В воде, если это солнечный день, обязательно отражаются дворцы, но главное – небо. Если поймать угол, то кажется, ты между синим и синим – между небом и водой, – в прекрасном нигде.
2 апреля 2019 года, в день информирования об аутизме, в Санкт-Петербурге была переменная облачность. И иногда синее небо действительно отражалось в воде. По улицам города между тем двигались люди, ритмично стучавшие в барабаны. В синих шарфах, синих накидках, а одна из них – Любовь Аркус – с написанным синим плакатом #СТОППНИ. В этот день Любовь Аркус согласилась дать мне интервью.
2 апреля 2019 года, в день информирования об аутизме, в Санкт-Петербурге была переменная облачность. И иногда синее небо действительно отражалось в воде. По улицам города между тем двигались люди, ритмично стучавшие в барабаны. В синих шарфах, синих накидках, а одна из них – Любовь Аркус – с написанным синим плакатом #СТОППНИ. В этот день Любовь Аркус согласилась дать мне интервью.
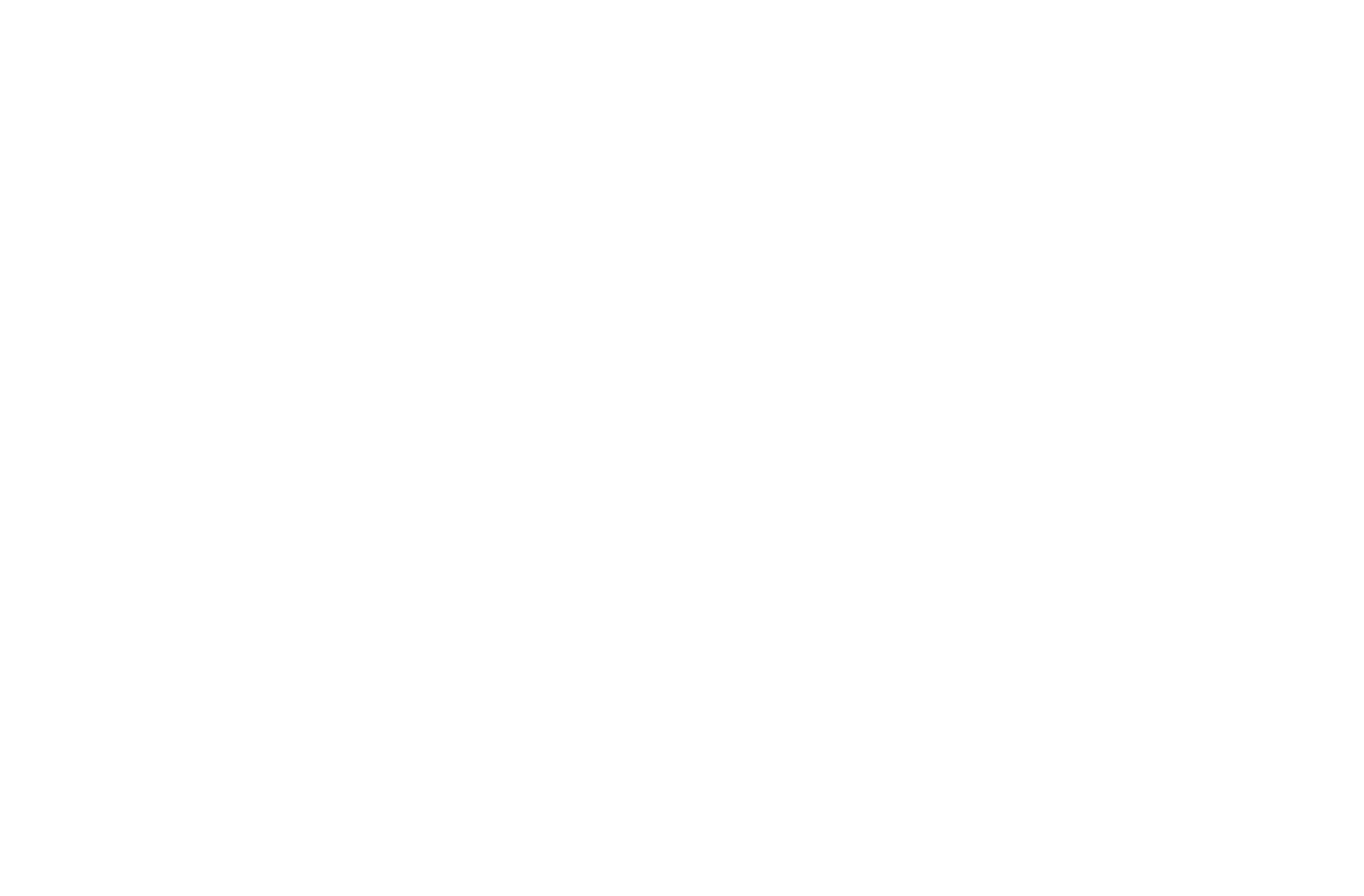
С соратником артистом Геннадием Смирновым на акции центра "Антон тут рядом" #СТОППНИ, 2 апреля 2019 года
– Плакат #СТОППНИ – он тебе зачем? Ты занимаешься помощью детям и молодым взрослым с аутизмом. На тебе фонд, Центр, «Сеанс» и два несделанных фильма.
– Мы идем, чтобы сказать, что мы – есть. Мы это делаем каждый год. И, кажется, даже какое-то количество людей про нас узнали. Но события последних месяцев меня убеждают в том, что нам оставили этот наш крошечный островок – ходите, стучите, трепыхайтесь там как-то, – но во внешнем мире все делается для того, чтобы нас не было.
– Вас – в смысле фонда?
– Нас – в смысле нас. Да, я не человек с аутизмом, у меня нет таких родственников. Но это уже моя социальная среда, это мои люди, поэтому я говорю «мы».
– Но со стороны кажется, что все, наоборот, прекрасным образом развивается. В некоторых местах даже чиновники теперь вместо «аутисты» говорят «люди с аутизмом».
– Да, говорят. Но моя почта завалена письмами из Томска, Оренбурга, Иркутска или Вологды с просьбой помочь. Этим людям я отвечаю: мы работаем только в Санкт-Петербурге. И, даже если вы приедете в Санкт-Петербург, мы вряд ли вам сможем помочь. У нас всего два центра, это около шестидесяти подопечных. И всегда – не меньше трехсот-четырехсот человек в очереди.
Мы ничего не можем делать для маленьких детей, за исключением того, что у нас есть программа для родителей детей-дошкольников, которая прекрасно работает, но это капля в море.
– Едва появилась тема аутизма, стали говорить о том, что такие центры, как «Антон тут рядом», должны быть по всей стране, что работа должна вестись системно. Ведется?
– Нет. Система как не работала, так и не работает. Дело не в том, что она неповоротлива, она просто стоит на месте. Иногда мне кажется, что мы превращаемся в какую-то витрину. На нас кивают, нас показывают, чтобы скрыть, что в стране на самом деле ничего нет.
– Но ведь планировалась целая федеральная программа помощи людям с аутизмом и другими ментальными особенностями.
– Нет. Не так. Благодаря усилиям НКО у министра труда и соцзащиты Максима Топилина появилась программа реформы системы психоневрологических интернатов. Но она не началась. Хотя радужные ожидания были такой силы, что всем показалось – началась.
– В чем идея реформы?
– В том, чтобы в существующую систему психоневрологических интернатов больше не поступали новые люди, чтобы постепенно, как во всем мире, создавалась альтернативная система.
– Как выглядит альтернативная?
– Это малонаселенные дома для людей, допустим, на десять человек, в небольшой удаленности друг от друга, – чтобы их могла патронировать группа специалистов, которая одновременно работает на несколько таких домов. Параллельно должны открываться социальные квартиры для людей, которые, как наши ребята из центра «Антон тут рядом», не могут жить одни, даже если они кандидаты физико-математических наук. У нас всего три таких квартиры в Питере – это ничто.
– Сколько помещается ребят в таких квартирах и как они функционируют?
– Никогда не больше четырех человек. У каждого – своя отдельная комната. С ними посменно живут сотрудники центра. Все ребята работают. Они ходят в защищенные мастерские или, кто может, работают на внешнем рынке.
– Это дорого?
– Мы давно просчитали финансовые показатели: это дешевле, чем психоневрологический интернат. Да, на входе это требует инвестиций. Но в дальнейшем, говоря на их языке, «подушевое» финансирование в разы меньше, чем в казенной системе. Но самая главная проблема молодых людей с ментальными особенностями – это отсутствие работы со смыслом. В ПНИ они гниют заживо, а в таких квартирах – могут жить.
– Мы идем, чтобы сказать, что мы – есть. Мы это делаем каждый год. И, кажется, даже какое-то количество людей про нас узнали. Но события последних месяцев меня убеждают в том, что нам оставили этот наш крошечный островок – ходите, стучите, трепыхайтесь там как-то, – но во внешнем мире все делается для того, чтобы нас не было.
– Вас – в смысле фонда?
– Нас – в смысле нас. Да, я не человек с аутизмом, у меня нет таких родственников. Но это уже моя социальная среда, это мои люди, поэтому я говорю «мы».
– Но со стороны кажется, что все, наоборот, прекрасным образом развивается. В некоторых местах даже чиновники теперь вместо «аутисты» говорят «люди с аутизмом».
– Да, говорят. Но моя почта завалена письмами из Томска, Оренбурга, Иркутска или Вологды с просьбой помочь. Этим людям я отвечаю: мы работаем только в Санкт-Петербурге. И, даже если вы приедете в Санкт-Петербург, мы вряд ли вам сможем помочь. У нас всего два центра, это около шестидесяти подопечных. И всегда – не меньше трехсот-четырехсот человек в очереди.
Мы ничего не можем делать для маленьких детей, за исключением того, что у нас есть программа для родителей детей-дошкольников, которая прекрасно работает, но это капля в море.
– Едва появилась тема аутизма, стали говорить о том, что такие центры, как «Антон тут рядом», должны быть по всей стране, что работа должна вестись системно. Ведется?
– Нет. Система как не работала, так и не работает. Дело не в том, что она неповоротлива, она просто стоит на месте. Иногда мне кажется, что мы превращаемся в какую-то витрину. На нас кивают, нас показывают, чтобы скрыть, что в стране на самом деле ничего нет.
– Но ведь планировалась целая федеральная программа помощи людям с аутизмом и другими ментальными особенностями.
– Нет. Не так. Благодаря усилиям НКО у министра труда и соцзащиты Максима Топилина появилась программа реформы системы психоневрологических интернатов. Но она не началась. Хотя радужные ожидания были такой силы, что всем показалось – началась.
– В чем идея реформы?
– В том, чтобы в существующую систему психоневрологических интернатов больше не поступали новые люди, чтобы постепенно, как во всем мире, создавалась альтернативная система.
– Как выглядит альтернативная?
– Это малонаселенные дома для людей, допустим, на десять человек, в небольшой удаленности друг от друга, – чтобы их могла патронировать группа специалистов, которая одновременно работает на несколько таких домов. Параллельно должны открываться социальные квартиры для людей, которые, как наши ребята из центра «Антон тут рядом», не могут жить одни, даже если они кандидаты физико-математических наук. У нас всего три таких квартиры в Питере – это ничто.
– Сколько помещается ребят в таких квартирах и как они функционируют?
– Никогда не больше четырех человек. У каждого – своя отдельная комната. С ними посменно живут сотрудники центра. Все ребята работают. Они ходят в защищенные мастерские или, кто может, работают на внешнем рынке.
– Это дорого?
– Мы давно просчитали финансовые показатели: это дешевле, чем психоневрологический интернат. Да, на входе это требует инвестиций. Но в дальнейшем, говоря на их языке, «подушевое» финансирование в разы меньше, чем в казенной системе. Но самая главная проблема молодых людей с ментальными особенностями – это отсутствие работы со смыслом. В ПНИ они гниют заживо, а в таких квартирах – могут жить.
– Какая связь между центром «Антон тут рядом» и реформой ПНИ?
– Топливом для пуска ракеты по имени центр «Антон тут рядом» был мой панический ужас перед ПНИ и перед тем, что там опять окажется Антон. А также ребята, с родителями которых я уже дружила. И если вдруг центр закрывается по каким-то причинам – заканчиваются деньги, со мной и Зойкой [Зоей Поповой, директор фонда «Антон тут рядом»] что-то случается, все наши студенты рано или поздно могут оказаться в ПНИ.
– Но любой здравый человек скажет, что психоневрологические интернаты, которых тысячи по всей стране, одним махом расформировать невозможно.
– Это не быстрый процесс, идиотов нет. Вместо строительства новых интернатов, на которое, как выяснилось, правительство выделило пятьдесят миллиардов рублей, нужно было направить эти деньги на реальную реформу. Да, мы понимаем, что существующие интернаты никуда не денутся, их одним махом не сотрешь с лица земли, как бы ни хотелось. Но строить точно такие же новые – преступление.
– Но деньги уже выделены. И выделены именно на это.
– А кроме этого, произошло очень много разных других вещей: вышел закон о реабилитации детей-инвалидов, где детям присваивают категории от перспективных до – ты просто вдумайся! – бесперспективных. Если ребенок бесперспективный, ему не положено никакой реабилитации вообще: если это опорник – не положена коляска, если ДЦП – не положена никакая физиотерапия, если когнитивные нарушения, он не понимает обращенную к нему речь – никто не будет с ним заниматься и пробовать что-то исправить. Бесперспективный ребенок, точка. Дальше система будет действовать, исходя из термина «бесперспективный». Но кто это решает?
А потом жизнь «бесперспективного» ребенка устроена так: ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия) определяет образовательный маршрут ребенка. Сидят три каких-то человека и, глядя только в бумажки, сообщают: ваш ребенок не обучаем. Те, кто принимает решение, ничего не знают про этих детей, и они при этом уполномочены ставить ребенку эту печать: «В утиль».
– Что, по логике системы, происходит с бесперспективными детьми?
– Они направляются в ДДИ, детский дом-интернат, а как повзрослеют – в ПНИ. Это система казенных учреждений, на которые выделяются огромные деньги. Система ПНИ постепенно снимает с государства обязанность индивидуально заботиться, защищать, лечить каждую отдельную семью, каждого отдельного ребенка, ментального инвалида или просто инвалида, или просто старика. И выходит, что недееспособные члены общества сгружаются в коллекторы для всех сирых и убогих, «бесперспективных».
А вокруг каждого учреждения этого бездействующего государственного милосердия – огромная паутина мелких интересантов: строители, поставщики питания, поставщики лекарств. Это огромный бизнес.
– Я думаю, нефтяной бизнес все же прибыльнее будет.
– Не знаю. Но могу сказать, что на Антона в 2010 году, это я знаю точно, из госбюджета уходило 50 тысяч рублей, и на его пенсионный счет, который никогда не мог быть активирован, падало каждый месяц еще пятнадцать тысяч. А Антон лежал на панцирной кровати на голом матраце, – не потому что ему не дали белье, а потому что он его сбрасывал, и никто не стелил обратно, – ему давали еду, которую Антон, при его зверском аппетите, не доедал, потому что есть это было невозможно. Никаких лекарств Антону не полагалось, кроме галоперидола.
Когда я его забрала, у него была чесотка и огромный гнойный мешок под зубом. Он кричал, но никто не понимал, почему он кричит. А даже если бы он сказал, что у него болит зуб, то там, хоть и числился один стоматолог на 1200 человек, его никогда не было, не говоря уже про терапевтов, гастроэнтерологов, лоров и прочих врачей.
– Топливом для пуска ракеты по имени центр «Антон тут рядом» был мой панический ужас перед ПНИ и перед тем, что там опять окажется Антон. А также ребята, с родителями которых я уже дружила. И если вдруг центр закрывается по каким-то причинам – заканчиваются деньги, со мной и Зойкой [Зоей Поповой, директор фонда «Антон тут рядом»] что-то случается, все наши студенты рано или поздно могут оказаться в ПНИ.
– Но любой здравый человек скажет, что психоневрологические интернаты, которых тысячи по всей стране, одним махом расформировать невозможно.
– Это не быстрый процесс, идиотов нет. Вместо строительства новых интернатов, на которое, как выяснилось, правительство выделило пятьдесят миллиардов рублей, нужно было направить эти деньги на реальную реформу. Да, мы понимаем, что существующие интернаты никуда не денутся, их одним махом не сотрешь с лица земли, как бы ни хотелось. Но строить точно такие же новые – преступление.
– Но деньги уже выделены. И выделены именно на это.
– А кроме этого, произошло очень много разных других вещей: вышел закон о реабилитации детей-инвалидов, где детям присваивают категории от перспективных до – ты просто вдумайся! – бесперспективных. Если ребенок бесперспективный, ему не положено никакой реабилитации вообще: если это опорник – не положена коляска, если ДЦП – не положена никакая физиотерапия, если когнитивные нарушения, он не понимает обращенную к нему речь – никто не будет с ним заниматься и пробовать что-то исправить. Бесперспективный ребенок, точка. Дальше система будет действовать, исходя из термина «бесперспективный». Но кто это решает?
А потом жизнь «бесперспективного» ребенка устроена так: ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия) определяет образовательный маршрут ребенка. Сидят три каких-то человека и, глядя только в бумажки, сообщают: ваш ребенок не обучаем. Те, кто принимает решение, ничего не знают про этих детей, и они при этом уполномочены ставить ребенку эту печать: «В утиль».
– Что, по логике системы, происходит с бесперспективными детьми?
– Они направляются в ДДИ, детский дом-интернат, а как повзрослеют – в ПНИ. Это система казенных учреждений, на которые выделяются огромные деньги. Система ПНИ постепенно снимает с государства обязанность индивидуально заботиться, защищать, лечить каждую отдельную семью, каждого отдельного ребенка, ментального инвалида или просто инвалида, или просто старика. И выходит, что недееспособные члены общества сгружаются в коллекторы для всех сирых и убогих, «бесперспективных».
А вокруг каждого учреждения этого бездействующего государственного милосердия – огромная паутина мелких интересантов: строители, поставщики питания, поставщики лекарств. Это огромный бизнес.
– Я думаю, нефтяной бизнес все же прибыльнее будет.
– Не знаю. Но могу сказать, что на Антона в 2010 году, это я знаю точно, из госбюджета уходило 50 тысяч рублей, и на его пенсионный счет, который никогда не мог быть активирован, падало каждый месяц еще пятнадцать тысяч. А Антон лежал на панцирной кровати на голом матраце, – не потому что ему не дали белье, а потому что он его сбрасывал, и никто не стелил обратно, – ему давали еду, которую Антон, при его зверском аппетите, не доедал, потому что есть это было невозможно. Никаких лекарств Антону не полагалось, кроме галоперидола.
Когда я его забрала, у него была чесотка и огромный гнойный мешок под зубом. Он кричал, но никто не понимал, почему он кричит. А даже если бы он сказал, что у него болит зуб, то там, хоть и числился один стоматолог на 1200 человек, его никогда не было, не говоря уже про терапевтов, гастроэнтерологов, лоров и прочих врачей.
А теперь давай с тобой просто составим все звенья: 50 миллиардов на строительство новых ПНИ – раз, принят закон о детях-инвалидах, где выделены «бесперспективные» дети, которым дорога – в казенное учреждение – два. И третий пункт – обращение петербургских психиатров в законодательное собрание с просьбой внести изменения в Закон о психиатрической помощи.
Если изменения будут приняты, то психиатрическая помощь может стать недобровольной и оказываться даже без согласия родственников. И это значит, что ребятам, которых мы обучили по специальным методикам передвигаться по городу самостоятельно, больше так делать нельзя – кто-то позвонит и сдаст бригаде. Мне кажется, что все это звенья одной цепи, целью которой является оптимизация «недееспособных».
– Ты уверена, что хотела бы сейчас ввязаться в битву против ПНИ, что у тебя хватит сил на это?
– До недавнего времени я искренне считала, что нужно создавать какие-то места и вещи, которые противостоят тьме, и энергию нужно тратить на это. Что больные дети не могут ждать, когда система изменится, они умрут завтра, если у них не будет денег на трансплантацию костного мозга, люди с аутизмом уже завтра попадут в ПНИ, пока мы будем протестовать против положения вещей в стране. Я считала, что нужно работать, а не митинговать. Вот сейчас, после введения термина «бесперспективный» и после миллиардов, выделенных на строительство новых ПНИ, у меня впервые возникла мысль о том, что надо бороться прямо сейчас.
– Как ты себе это представляешь?
– Встать в одиночный пикет.
– Смешно.
– Это, конечно, отчаяние, я просто не знаю, что еще я могу сделать.
– Взять в заложники министра Топилина.
– Если серьезно, Кать, я не хотела бы брать Топилина в заложники. Я хотела бы любого из чиновников, который тормозит реформу (а ведь мы по-настоящему не знаем, кто ее тормозит), запереть на один день в интернате на общих основаниях: прогнать через санприемник, чтобы в перчатках синих вертели его голову, отобрали у него все его личные вещи, бросили на эту койку, сделали укольчик и оставили там одного, не дав выйти покурить, если он курит, не спросив, какая у него диета. Дали бы с утра эту гнилую капусту с обрезками жира. Называли бы его на «ты» и, конечно, пригрозили бы ему психушкой, если бы он очень интеллигентно и вежливо спросил, почему все это с ним происходит. Сказали бы: «Знаешь, куда у нас отправляются те, кто много лишних вопросов задает? Сейчас поедешь в надзорную!»
Я думаю, он вышел бы оттуда другим. Но есть тонкости. Вот, предположим, перевоспитается один, выйдет и станет топить за реформу вместе с нами. Но ведь вокруг-то живут люди. Вот эти обычные люди, которые пишут мне в фейсбуке: «Это что же вы предлагаете: психи что, теперь среди нас ходить будут?» или «Что, на этих стариков надо жизнь положить, а свою уничтожить? Мы же не можем жить с таким человеком в доме. От него – воняет». Эти люди страдают отсутствием эмпатии, и мне кажется, что это болезнь века.
– А по-моему, это просто – этап. В XX или, тем более, XIX веке достоинство людей с особенностями вообще не было предметом обсуждения. То есть мы все-таки сделали шаг вперед.
– У меня как-то был разговор с потенциальным инвестором Центра, который спросил: «Их можно вылечить?» – «Нет». – «А зачем тогда тратить деньги, я не понял». И мои объяснения, что эти люди могут умирать в интернате, а могут жить полноценной жизнью, уже не работали. Слишком тонкие материи для деятельного сочувствия.
Одно дело – купить ребенку жизнь. А другое – вкладываться в человека с ментальными особенностями, чтобы он жил и не подох на ссаной койке в интернате или в изоляторе с решеткой на окнах. Это вложение другого типа, от него другая отдача.
– И как это изменить?
– Главная проблема – не только государство считает, что так правильно и так надо, но и общество. По большому счету, государство не может делать ничего, что в обществе не одобряемо. Инклюзию тормозят мамы обычных детей, которые пишут жалобы, устраивают скандалы. И от своих стариков хотят отказаться тоже обычные люди. И «психов среди нас» не хотят видеть обычные люди, а не какие-то монстры. Это не только социально приемлемо, но и социально одобряемо. Это и есть агрессивное большинство.
– То есть тупик?
– И да, и нет. На самом деле мир ребят с аутизмом и их родителей – это наше зазеркалье. Сегодня у нас все больший разрыв между человеком социальным и человеком сокровенным: рождается сокровенный человек, такой, каким его задумал Бог, проходит социальную адаптацию, то есть взросление. А потом социум все больше требует от него соблюдения каких-то правил и условностей: сократить, убрать, спрятать этого своего сокровенного человека. И разрыв теперь такой большой, что иногда сокровенный человек с социальным просто не знакомы, не знают друг друга.
У людей с аутизмом сокровенное – тотально, оно не оставляет места для социального. А так называемые «нормальные люди» страдают расстройством привязанности, одно из следствий которого – дефицит эмпатии. То есть у «нормальных людей» социальный человек побеждает и вытесняет сокровенного. Но он же, этот сокровенный человек, никуда не делся. Надо его просто разбудить. Он же там, внутри. Тут рядом.
Если изменения будут приняты, то психиатрическая помощь может стать недобровольной и оказываться даже без согласия родственников. И это значит, что ребятам, которых мы обучили по специальным методикам передвигаться по городу самостоятельно, больше так делать нельзя – кто-то позвонит и сдаст бригаде. Мне кажется, что все это звенья одной цепи, целью которой является оптимизация «недееспособных».
– Ты уверена, что хотела бы сейчас ввязаться в битву против ПНИ, что у тебя хватит сил на это?
– До недавнего времени я искренне считала, что нужно создавать какие-то места и вещи, которые противостоят тьме, и энергию нужно тратить на это. Что больные дети не могут ждать, когда система изменится, они умрут завтра, если у них не будет денег на трансплантацию костного мозга, люди с аутизмом уже завтра попадут в ПНИ, пока мы будем протестовать против положения вещей в стране. Я считала, что нужно работать, а не митинговать. Вот сейчас, после введения термина «бесперспективный» и после миллиардов, выделенных на строительство новых ПНИ, у меня впервые возникла мысль о том, что надо бороться прямо сейчас.
– Как ты себе это представляешь?
– Встать в одиночный пикет.
– Смешно.
– Это, конечно, отчаяние, я просто не знаю, что еще я могу сделать.
– Взять в заложники министра Топилина.
– Если серьезно, Кать, я не хотела бы брать Топилина в заложники. Я хотела бы любого из чиновников, который тормозит реформу (а ведь мы по-настоящему не знаем, кто ее тормозит), запереть на один день в интернате на общих основаниях: прогнать через санприемник, чтобы в перчатках синих вертели его голову, отобрали у него все его личные вещи, бросили на эту койку, сделали укольчик и оставили там одного, не дав выйти покурить, если он курит, не спросив, какая у него диета. Дали бы с утра эту гнилую капусту с обрезками жира. Называли бы его на «ты» и, конечно, пригрозили бы ему психушкой, если бы он очень интеллигентно и вежливо спросил, почему все это с ним происходит. Сказали бы: «Знаешь, куда у нас отправляются те, кто много лишних вопросов задает? Сейчас поедешь в надзорную!»
Я думаю, он вышел бы оттуда другим. Но есть тонкости. Вот, предположим, перевоспитается один, выйдет и станет топить за реформу вместе с нами. Но ведь вокруг-то живут люди. Вот эти обычные люди, которые пишут мне в фейсбуке: «Это что же вы предлагаете: психи что, теперь среди нас ходить будут?» или «Что, на этих стариков надо жизнь положить, а свою уничтожить? Мы же не можем жить с таким человеком в доме. От него – воняет». Эти люди страдают отсутствием эмпатии, и мне кажется, что это болезнь века.
– А по-моему, это просто – этап. В XX или, тем более, XIX веке достоинство людей с особенностями вообще не было предметом обсуждения. То есть мы все-таки сделали шаг вперед.
– У меня как-то был разговор с потенциальным инвестором Центра, который спросил: «Их можно вылечить?» – «Нет». – «А зачем тогда тратить деньги, я не понял». И мои объяснения, что эти люди могут умирать в интернате, а могут жить полноценной жизнью, уже не работали. Слишком тонкие материи для деятельного сочувствия.
Одно дело – купить ребенку жизнь. А другое – вкладываться в человека с ментальными особенностями, чтобы он жил и не подох на ссаной койке в интернате или в изоляторе с решеткой на окнах. Это вложение другого типа, от него другая отдача.
– И как это изменить?
– Главная проблема – не только государство считает, что так правильно и так надо, но и общество. По большому счету, государство не может делать ничего, что в обществе не одобряемо. Инклюзию тормозят мамы обычных детей, которые пишут жалобы, устраивают скандалы. И от своих стариков хотят отказаться тоже обычные люди. И «психов среди нас» не хотят видеть обычные люди, а не какие-то монстры. Это не только социально приемлемо, но и социально одобряемо. Это и есть агрессивное большинство.
– То есть тупик?
– И да, и нет. На самом деле мир ребят с аутизмом и их родителей – это наше зазеркалье. Сегодня у нас все больший разрыв между человеком социальным и человеком сокровенным: рождается сокровенный человек, такой, каким его задумал Бог, проходит социальную адаптацию, то есть взросление. А потом социум все больше требует от него соблюдения каких-то правил и условностей: сократить, убрать, спрятать этого своего сокровенного человека. И разрыв теперь такой большой, что иногда сокровенный человек с социальным просто не знакомы, не знают друг друга.
У людей с аутизмом сокровенное – тотально, оно не оставляет места для социального. А так называемые «нормальные люди» страдают расстройством привязанности, одно из следствий которого – дефицит эмпатии. То есть у «нормальных людей» социальный человек побеждает и вытесняет сокровенного. Но он же, этот сокровенный человек, никуда не делся. Надо его просто разбудить. Он же там, внутри. Тут рядом.
Я слушаю ее и вспоминаю, с чего, на самом деле, начинался фильм Аркус «Антон тут рядом», познакомивший меня с ней, познакомивший миллионы моих соотечественников с темой аутизма и шире – с тем, что люди вообще не одинаковые и это – не опасно. Вспоминаю, как задели меня слова, которые произносит Аркус: она говорит, что благодаря Антону узнала себя, что прежде она забыла, кто она такая, увлекшись социальным порывом состояться, заработать денег, осуществить свои желания. «Я забыла, кто я, – говорит Аркус и продолжает: – И вот мне подставили зеркало».
Очевидно, что Антон – и дорогой ей человек, и важный для нее фильм, и центр, и все, хорошее и плохое, что было после, – это больше, чем просто герой фильма, случайно задевший за живое подросток, чем (дурацкое слово!) подопечный. Антон погрузил Любовь Аркус в мир, где люди сокровенны и не имеют никакой социальной оболочки: не понимают, что такое карьера, деньги, успех, не умеют кривить душой, интриговать, им это неведомо и не доступно – в принципе, в этом-то и заключается нарушение развития. Антон – причина и повод, по которой Аркус попыталась создать в своем холодном Санкт-Петербурге маленький островок, где грань между такими, как Антон, и другими – безболезненная, невидимая и дружелюбная.
Но островок оказался утопией: тот, кого она пыталась уберечь, рано или поздно должен будет столкнуться с внешним миром; тот, кто не попал под ее опеку, неизбежно попадет под каток государственного милосердия. От него как спасешься?
Аркус курит. Солнце с луной одновременно стоят в зените петербургского неба. Оно сереет и медленно гаснет. Через пару месяцев в городе будут стоять белые ночи.
Очевидно, что Антон – и дорогой ей человек, и важный для нее фильм, и центр, и все, хорошее и плохое, что было после, – это больше, чем просто герой фильма, случайно задевший за живое подросток, чем (дурацкое слово!) подопечный. Антон погрузил Любовь Аркус в мир, где люди сокровенны и не имеют никакой социальной оболочки: не понимают, что такое карьера, деньги, успех, не умеют кривить душой, интриговать, им это неведомо и не доступно – в принципе, в этом-то и заключается нарушение развития. Антон – причина и повод, по которой Аркус попыталась создать в своем холодном Санкт-Петербурге маленький островок, где грань между такими, как Антон, и другими – безболезненная, невидимая и дружелюбная.
Но островок оказался утопией: тот, кого она пыталась уберечь, рано или поздно должен будет столкнуться с внешним миром; тот, кто не попал под ее опеку, неизбежно попадет под каток государственного милосердия. От него как спасешься?
Аркус курит. Солнце с луной одновременно стоят в зените петербургского неба. Оно сереет и медленно гаснет. Через пару месяцев в городе будут стоять белые ночи.