
Данте, Пушкин и Евангелие
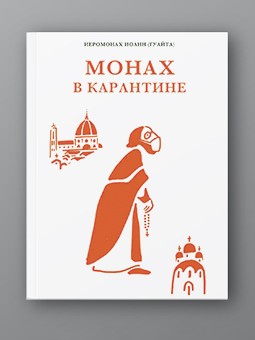
И филолог и иеромонах отец Иоанн Гуайта в начале своей книги, и филолог, журналист и писатель Александр Архангельский в предисловии к ней, точно пишут об источниках «Монаха в карантине» — сборника карантинных заметок, «записей и выписок», размышлений и статей иеромонаха, оказавшегося в изоляции на 40 дней коронавирусного карантина и тяжелой болезни. Не только верно, но и очень уместно, потому что книга отца Джованни вся строится на диалогах, перекличках (вне времен и расстояний, это один из ключевых лейтмотивов), он «по чужой канве вышивает свои сюжеты» (и, конечно, пушкинского в ней очень много — хотя бы уже потому, что писательский «Пир во время чумы» и русский «Декамерон» начал именно он в 1830 году, утверждая творческую свободу, жизнелюбие и благодарное упование во время эпидемии холеры).
В поэтике и теологии книги Иоанна Гуайты многое от тех, про кого он пишет — от Боккаччо и Данте, Максима Грека и Ксавье де Местра, отца Александра Меня и отца Георгия Чистякова. Текст как будто вбирает в себя стилистику его героев, оставаясь, конечно, авторским, не становясь подражательным: тут и дантовская острота, и его же мотив света; тут и «меневские» рассуждения о Евангелии как центре жизни, и его же соединение богословия с «домашнестью» и художественным претворением вечного сюжета; и боккаччевская тяга к новеллизации.
Конечно же, ключевым претекстом становится Библия, ненавязчиво (самоирония и смирение — в каждом фрагменте книги), но уверенно входящая в ее ткань: это и 40 послепасхальных дней карантина, которые явно параллелятся как с 40 днями от Пасхи до Вознесения, так и с 40 днями Великого поста, заканчивающегося разрешением-освобождением-воскресением; и полотно библейских цитат (вроде бы нормальное дело для любого священника и любого христианского сочинения — но тут иначе, никогда не как «подтверждение», а всегда как диалог); но и сам дух сочинения отца Джованни подлинно евангельский — о чем он не пишет по понятной причине, но нам, читателям, надеюсь, можно.
«Монах в карантине», как и Евангелие, — это не только богословие, но и делание, это опыт исцеляющего слова (как Божьего, так и литературного, которое всегда отчасти по образу и подобию Божьего), а главное — опыт служения людям. Ключевой мотив книги — мотив страдания (страдания Христа, Его опыт богооставленности, и страдания человека), рассказы о службе Иоанна Гуайты в хосписе, его помощи смертельно больным детям, и неизбежные в этой связи рассуждения о теодицее, об оправдании и осмыслении страданий человеческих.
И что особенно ценно, подходя к этому вопросу, отец Джованни оставляет его без прямого рационального ответа: веруя и уповая на помощь Христа, который, пережив опыт безвинного страдания и богооставленности, находится рядом с каждым безвинно страдающим. Так это делание становится опытом безусловной любви, тихой радости, благодарности, все проникнуто духом диалога — собственно, тем же, чем является Евангелие.
Детский взгляд на мир
В этой связи стоит вспомнить еще один «источник», не названный прямо (хотя и имя автора регулярно звучит в книге), — «Цветочки Франциска Ассизского» (кстати, жанровая связь с флорилегием принципиальна для композиции и архитектоники книги Гуайты). Франциска заставляет вспомнить и сила обновляющего христианства («религии хороших новостей», по Аверинцеву; о «свидетельстве нового образа святости» пишет Гуайта в связи с Григором Нарекаци и Франциском Ассизским), оптимистичного, устремленного в будущее, включенного в «жгучее настоящее» (из рассуждений об отце Георгии Чистякове), и, конечно, особые отношения с животными.
Черепахи, слон, голуби, овцы — все они становятся полноправными героями богословия Гуайты.
В этом, прежде всего, опыт всеобъемлющей любви — а еще и детской наивности, детского взгляда на мир (помню, как коллега, директор православной школы, рассказывала, что в школьном храме для икон старались выбирать сюжеты с животными). Думается, что, следуя евангельскому завету, во многом таким взглядом смотрят не только адресаты детских проповедей Иоанна Гуайты, но и сам проповедник (что и делает детские проповеди такими живыми и пронзительными).
Христианство овечек, черепашек, голубей приближается к живой сути религии любви и свободы — и тут снова вспоминается Пушкин («На волю птичку выпускаю…», что можно сравнить с эпизодом из «Цветочков», в которых Франциск приручает голубей, потом отпуская их).
Размыкание границ в самоизоляции
Пастырский опыт иеромонаха Иоанна делает «Монаха в карантине» одновременно проповедью, но и возможностью исповеди для читателя, возможностью, которая дает утешение. Это утешение — в уроке принятия себя, встречи с собой, уроке самовозрастания в диалоге. Наверное, это и некоторого рода исповедь — ну или точно диалог с Богом — для самого отца Джованни. Не уверен, что этот диалог имеет итог (он открыт), но кажется, что общим знаменателем становится бесстрашие: принятие собственного пути как осмысленного, в котором все связано (и собственная жизнь, ее географические пересечения и хронологические переклички); осознание Божественной любви, которая («Не бойся, Я с тобой!») претворяет опыт затворничества, болезни и страха — в опыт освобождения.
В конечном счете, наверное, это и есть формула культуры, религии, любви: наша замкнутость и малость превращается в нашу свободу. Путешествие — важная модель построения текста («Путешествие вокруг своей комнаты»), постижения мира (рассказы о путешествиях самого Иоанна Гуайты, Георгия Чистякова), как модель вообще нашей жизни (рассуждения о пути Данте, о пути Христа — выход за пределы привычного, становящийся экзистенциальным опытом). И это путь, в котором мы (и автор) постепенно приближаемся к главному — самому себе настоящему. Отец Джованни перебирает четки своими историями — о любимых, о друзьях, о прихожанах, о учителях, о книгах и их авторах, о жертвах геноцида и его свидетелях… В этих четках, конечно, нет тебя (читателя), но почему-то все время кажется, что ты очень рядом.

Иеромонах Иоанн Гуайта. Фото: Татьяна Никитина
Чувство сопричастности возникает все время. Прежде всего, это связь героев книги между собой. Что объединяет отца Александра Меня и Петрарку, Данте и отца Георгия Чистякова, Максима Грека и Кьяру Любич? Думается, что ситуация встречи (неслучайно одна из последних проповедей в книге — о Сретении, причем и о Симеоне, и о Христе, и о Бродском, и об отце Джованни, Бродского переводящем) — встречи миров, сознаний, культур. Когда страшно замыкаться в самоизоляции, особым счастьем становится размыкание всяческих границ — в литературе, Церкви, Евангелии.
Это мысль об открытости, о диалоге (в том числе межконфессиональном, межпоколенческом, политическом) — как об основе христианства. О христианстве, которое не должно замыкаться, закрываться в нафталиновом консерватизме, но должно открываться миру (для меня, как и для многих, трансляции богослужений прошлогоднего Великого поста, организованные отцом Джованни, были важнейшим опытом сопричастности, открытости — и об этом тоже рассказывается в книге, о том, как непросто Церковь встречала опыт карантина, но как и он, в конечном итоге, стал освобождающим).
Отец Джованни много говорит и о размыкании той границы, которая так часто усиленно возводится — границы между Богом и человеком: о «сближении Слова Божия со словом человеческим» в трудах Георгия Чистякова, о диалоге человека и Бога, о чуде боговоплощения…
Вообще, размыкание и смещение границ — одна из сквозных тем книги, открывающей нам христианство поверх границ, размежеваний, культуру поверх привычных рамок эпох (о Петрарке и Данте между Средневековьем и Возрождением), полноту жизни — поверх смерти и одиночества, иронию и юмор — рядом с серьезностью и трагизмом, фейсбук — рядом с Библией. Важно, что это размыкание границ — и в самой стилистике книги, сотканной из разнородного, но не распадающейся, очень веселой и очень пронзительной, «дочирикивающейся до истины», по замечанию Александра Архангельского.
Это и дает книге силу удивительной надежды. Казалось бы, многие рассуждения о современном христианстве звучат почти отповедью — формализму, мракобесию, политической зависимости, да просто нелюбви (и нам, читателям из «прогрессивного» «лагеря» так и хочется впасть в известный грех гордыни). Но нет — отец Джованни замечает: «Как жаль, что Церковь делят…»
Это надежда на то, что поверх разделений настанет связь, на то, что человечество прислушается к опыту «гуманизации», воспримет его (об этом отец Джованни пишет и в связи с историей монашества, и в контексте осмысления опыта эпидемии).
Я не уверен, увы, насколько это можно принять разумом: слишком уж во многом видно сейчас, как человечество в опыте эпидемии — не объединилось, не примирилось, не умягчилось. Зато с тем большей ясностью эту надежду, прочитав книгу иеромонаха Иоанна Гуайты (книгу, которая неслучайно заканчивается современной молитвой), принимаешь сердцем — с благодарностью и любовью.
Отрывок из книги «Монах в карантине». Петя и Егорка
Сегодняшний день, понедельник, должен был быть днем домашнего затвора — это когда я совсем не выхожу из своей кельи-квартиры и могу наконец заниматься всем тем, чем трудно заняться в другие дни, в толпе нашего мегаполиса… Моя неделя делится так — в начале пустынь, уединение в тишине кельи, потом полное погружение в гущу толпы. В этот раз день затвора был долгожданным, потому что на прошлой неделе в понедельник я уехал в Италию на кинофестиваль, вернулся в среду, в четверг — престольный праздник, в пятницу — исповедь, а в субботу и воскресенье, понятно, — службы, исповедь, разговоры, требы, встречи…
Но в середине дня мне позвонили: малыш Георгий родился в четыре утра и роды были очень сложными. Его реанимировали, потом ввели в искусственную кому в условиях гипотермии. Попросили срочно его крестить. Я, конечно, съездил сначала в храм за миром, затем в реанимацию. Егорка оказался невероятно красивым ребенком, папа — удивительно интересным человеком, известным художником, занимающимся стрит-артом, очень любившим Тарковского.
Слава Богу, успел крестить и миропомазать. Ребенок кажется крепким. Конечно, я тут же вспомнил Петю.
Петю я крестил в начале октября прямо в операционной. Мне позвонили из перинатального отделения детского хосписа и спросили, смогу ли совершить обряд Крещения за считанные минуты. Его страшный диагноз был известен задолго до рождения — анэнцефалия, отсутствие мозга. Родители отказались от аборта, а также попросили не реанимировать ребенка, так как надежд на какую бы то ни было обычную человеческую жизнь не было. Так, надо было успеть покрестить за несколько минут сразу после кесарева сечения.
Должен сказать, что я парень впечатлительный, никогда не присутствовал при родах, боюсь ни только операционной, но даже больницы вообще! И все же, приготовил все необходимое и, наверное, минуты за две покрестил, миропомазал и причастил ребенка капелькой Крови Христовой на язычок. Петя был еще грязным, покрытым кровью матери. У него, как оказалось, не только не было мозга, но и части черепа — я облил святой водой его личико. За секунду до начала обряда меня вдруг посетило сомнение: какой смысл имеет такая жизнь? Ведь она продлится всего лишь несколько минут. Но Петя смотрел на меня удивительно живыми, казалось бы, огромными темными глазами…
Его взгляд меня ободрил, как будто ребенок мне говорит: «давай, не сомневайся!»
Врачи не знали, будет ли ребенок дышать, но он задышал. Во время обряда мне пришли в голову слова псалма, последний стих Псалтыри: всякое дыхание да хвалит Господа (Пс. 150). Я, конечно, знаю, что «всякое дыхание» здесь означает «все, что дышит, всякое живое существо» — и все же мне стало приятно при мысли о том, что маленький Петя хвалит Господа самим своим существованием, своей короткой жизнью, телом без мозга, своим легким дыханием… Я знал, что этот ребенок не имеет практически никаких шансов выжить. По окончании обряда мне вспомнились слова песни Симеона Богоприимца, и я молился от имени Пети «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко»…
Как я узнал впоследствии, по законодательству РФ врачи в больнице обязаны реанимировать пациентов. Когда Петя перестал дышать сам, врачи подключили его к аппарату ИВЛ, и он прожил ровно месяц. Я, конечно, никогда не забуду Петю, его глаза.
И сегодня, во время крестин Георгия, я вспомнил его. Он был где-то рядом, с Георгием Победоносцем, с отцом Георгием Чистяковым, который окормлял тяжко болящих детей…
Петенька! Помоги, пожалуйста, Егорке!

