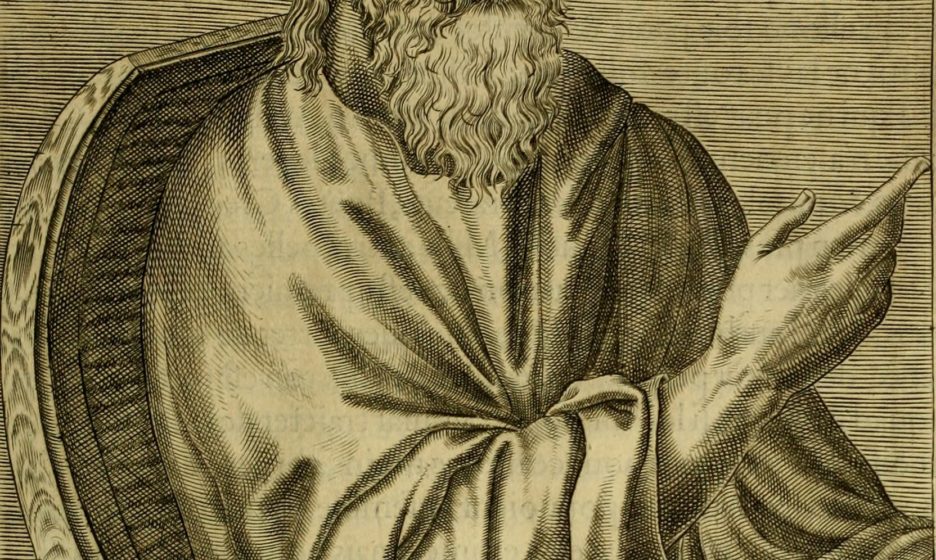
Одним из основных признаков, отличающих философию от других дисциплин организованного знания, как правило, называют, и весьма справедливо, тот, что у нее всегда, по самой ее природе, обнаруживаются трудности с “научным прогрессом” и она неизменно возвращается к тем проблемам и дилеммам, которые были поставлены и, казалось бы, уже решены еще на заре ее истории. Современным физикам и математикам нет уже ни малейшей нужды обращаться к тем задачам, которые в свое время стояли перед Архимедом или Евклидом, тогда как сегодняшние оксфордские этики и их заокеанские коллеги продолжают, пусть и в самом новом терминологическом обличье, решать задачи, поставленные старшими софистами и учениками Сократа. Поэтому и феномен этического натурализма, к которому уже неоднократно обращались историки этики и который еще раз был очень четко прочерчен Пиамой Павловной, провоцирует на новые, возможно уже и излишние, но, как было выяснено, для философского сознания неизбежные уточнения и детализации того, что вроде бы уже вполне выяснено. Другая причина появления этих комментариев в том, что тот этический натурализм XIX века, о котором преимущественно и пишет Пиама Павловна, воспроизводится и дает новые “морфозы” до настоящего времени, определяя и умонастроения нескольких эпох нового позитивизма, и ту ментальность, которую сейчас обычно называют постмодерном, а мы бы назвали постструктуралистской мифологией. Поэтому предстоящие комментарии будут касаться всех трех теоретически возможных аспектов рассмотрения “этического натурализма” — и понятийного, и исторического, и оценочного, — будут именно касаться, ибо более основательное вхождение в эту неисчерпаемую по материалу тему разрушит, конечно, все жанровые границы диалога.
1. Обозначение определенного ряда философов в качестве “натуралистов”, которое производит впечатление достаточно древнего, было введено в обиход сравнительно поздно — в XVI–XVII вв., когда христианские апологеты Ф. де Марнэ, Р. Карпентер и Г. Воэций стали так называть тех, кто все происходящее в мире приписывал природе, отрицая сверхприродное, или, по-другому, атеистов. Но словосочетание ethical naturalism, ставшее общепринятым у этиков, узаконилось значительно позднее — после трактата выдающегося английского философа Дж. Мура Principia Ethica (1903), с которого начинается новый этап в истории этики — метаэтика. Суть нового подхода состояла в том, что если этики до Мура более двух тысячелетий спорили о том, что есть добро и зло в человеческом поведении и каковы средства реализации первого и избежания второго, предлагая самые различные решения этих вопросов, то Мур обратился к выяснению того, каковы с логико-семантической точки зрения сами эти вопросы, какова природа этических суждений, в которых участвуют термины добро, зло и поведение, и какова, наконец, степень определимости этих исходных терминов 1. Исследование степени определяемости понятия добро и привело его к формулировке знаменитого принципа натуралистической ошибки (the naturalistic fallacy), которая состоит в том, что добро, которое в качестве понятия абсолютно “простого” оказывается принципиально неопределимым (задачей же определения как такового является прежде всего разложение определяемого понятия до “неделимых” частей) 2, пытаются определить через какие-то другие понятия, совершая ту ошибку, что из вполне правильного суждения типа Удовольствие есть добро или Здравомыслие есть добро, делается уже логически незаконный шаг инверсии типа Добро есть удовольствие или Добро есть здравомыслие, ибо здесь не учитывается, что если все хорошее имеет одновременно еще какие-то свойства, то из этого еще не следует, что установление последних есть тем самым уже и определение добра. В качестве своего предшественника Мур называет крупного английского этика прошлого столетия Г. Сиджвика, подвергшего сходной критике определение добра у основателя утилитаризма И. Бентама 3, а я счел бы таковым уже Платона, который ясно показывал (хотя еще и не доказывал) неопределимость блага в своем “существе” и определимость его лишь через отдельные его “энергии” 4. Считая добро, таким образом, “атомарным” понятием, которое нет смысла определять через ближайшие к нему, ибо они его же в себе и содержат, Мур был абсолютно прав. Более того, то, что справедливо относительно агатологии (так мы предпочитаем называть исследование блага-ўgaqТn, которое является, на наш взгляд, отдельной от этики областью философского исследования, служащей, однако, основанием последней), применимо и к аксиологии, поскольку и все известные нам определения “ценности” также суть определения ее через то, в чем она уже сама предполагается 5.
Вернемся, однако, к натуралистической ошибке. Согласно Муру, ее суть в том, что добро сводится к какой-либо другой вещи, и этические теории, на этой ошибке основывающиеся, делятся на те, которые связывают эту “другую вещь” с каким-то “естественным” предметом типа удовольствия (о котором мы знаем из непосредственного опыта) или с предметом, существующим в некоем сверхчувственном мире (о котором мы можем судить только опосредованно). Теории первого типа он называет натуралистическими, второго — метафизическими 6. Из этого следует, что у Мура “этический натурализм” имеет два измерения: в общем смысле — как любая гетерономная интерпретация добра (независимо от характера самой гетерономии), в специальном — как интерпретация добра в рамках “естественных вещей”.
После Мура метаэтика (термин стал популярным с 1930-х годов благодаря последователям Мура, многие из которых затем с ним разошлись) проходит по меньшей мере четыре этапа (последний — в настоящее время), определяемых тем, какие трактовки этических суждений оказываются преобладающими. До 1930-х годов преобладали течения интуиционизма — восходящее к самому Муру понимание этих суждений как основанных на интуитивном постижении добра (по причине его сущностной неопределимости); в 1930–1950-е — эмотивизм, вначале радикальный у Б. Рассела и А. Айера, которые видели в них лишь выражение эмоций, лишенных как информативности, так и смысла, затем умеренный у Ч. Стивенсона, который попытался эту трактовку смягчить; в 1950–1960-е — лингвистический анализ языка морали у Р. Хеэра; с 1970–1980-х — направление прескриптивизма, согласно которому этические суждения имеют лишь императивный (предписательный), а не дескриптивный (описательный) характер, развиваемое тем же Хеэром, но также У. Франкеной и отчасти оксфордскими этиками Д. Уорноком и Ф. Футом. Помимо анализа этических суждений, предметом метаэтики является (как второй предметный ярус этой философской дисциплины) анализ языка самих этиков и их концепций.
Оставляя в стороне споры различных направлений метаэтики по всем прочим вопросам, отметим три сложившихся к настоящему времени подхода к определению понятия “этический натурализм”. Первый не различает выделенных нами выше двух уровней этого понятия у Мура — “этического натурализма” как способа построения определений блага (независимо от того, соглашаются здесь с самой трактовкой “натуралистической ошибки” у Мура или отвергают ее) и того мировоззрения, в рамках которого осуществляется гетерономное понимание добра 7. Второй подход сводит искомое понятие только к способу построения определения добра, соотнося “этический натурализм” с любыми подходами к трактовке этических суждений в качестве дескриптивных 8. Третий учитывает два измерения “этического натурализма” в виде:
1) попыток включения этики в ряд обычного научного познания, при котором предикаты этических суждений трактуются в качестве “естественных” или объективно верифицируемых;
2) мировоззренческой установки, которая опирается на “метафизический натурализм” и сводит нравственную жизнь к “естественной”, противостоя любым попыткам понимания ее исходя из антропологии, допускающей трактовку человека как духовного или разумно-свободного существа 9.
Таким образом, современный философский (точнее метафилософский) язык позволяет считать, что термин “этический натурализм” может быть истолкован в трех смыслах.
Во-первых, как позиция тех метаэтиков, которые трактуют любое этическое суждение, например, Относиться к нашим ближним хорошо — наша обязанность, в качестве не только императивного, но и фактологического. Хотя подобная трактовка подобного суждения представляется сомнительной, она, однако, только с большим трудом ассоциируется с тем, с чем обычно в нашем сознании соотносится “натурализм”.
Во-вторых, как позиция тех философов, которые выводят феномен добра из каких-то других, “объективных” факторов, по отношению к которым оно вторично. Эта позиция также не ассоциируется с точки зрения здравого смысла непосредственно с “натурализмом”, ибо ее разделяют и марксисты, у которых нравственность — продукт (хотя и относительно самостоятельный) социально-экономических отношений, и томисты, у которых она — “естественное” самовыражение природы человека как тварного телесно-духовного существа. Но здесь важен тот момент, что оба эти подхода (наряду с очень многими другими) при всей их радикальной взаимоисключаемости необходимо отнести к теориям гетерономной этики, которой противостоит исключительно раритетный класс философов — в лице Канта, Мура (хотя второй из них не признавал близости своего “родства” с первым) и их “ортодоксальных” последователей, которые эту гетерономность отрицали. К этому обстоятельству мы специально обратимся позднее.
В-третьих, как позиция тех мыслителей, которые основывают свои этические построения на натуралистической антропологии, дедуцируемой, в свою очередь, из натуралистической космологии. В этом смысле термин “этический натурализм” приобретает свое различительное, специальное значение. В этом наиболее легитимном смысле он употребляется и Пиамой Павловной, чье определение соответствующих этических теорий нуждается только в одном уточнении: что они ищут предпосылки этических принципов не просто в “природе” (которая является понятием объемным), но в той природе человека, в коей признаются только две составляющие — телесное и душевное — и из которой исключается третья — его духовно-субстанциальное ядро.
2. Предложенная Пиамой Павловной классификация направлений этического натурализма XIX века убедительна и в особых комментариях не нуждается, поскольку деление на утилитаристов, эволюционистов, социоцентристов и “виталистов” является достаточно исчерпывающим (если не включать различные “промежуточные” фигуры, пытавшиеся совместить в той или иной степени все четыре основных принципа, что в общем-то было нетрудно). Следует расширить разве что панораму “философии жизни” как направления натуралистической этики, оказавшегося в определенном смысле приоритетным в ХХ столетии. Здесь можно в первую очередь отметить две рельефные в своем взаимонесходстве фигуры.
Ф. Паульсен (1846–1908), чья знаменитая книга “Основы этики” (1889) выдержала 12 изданий, относился к преобладавшей в прошлом веке верившей во всемогущество науки группе “сциентистов”. Классический эклектик, испытывавший на разных стадиях своих мировоззренческих эволюций все возможные влияния от Канта до Спинозы и декларировавший признание духовной сущности вселенной и человека, он тем не менее усматривал ближайший аналог этической науки в науке медицинской и, словесно признавая звучавшие уже в его время совершенно бесспорные замечания в связи с тем, что этика учит о том, что должно быть, а не о том, что есть, все же настаивал на родстве “этического метода” с методом эмпирических наук. Истины нравственных законов опытно проверяемы 10. Из трансцендентного же источника жизни, а также из “внутреннего голоса” (то есть совести) нравственные законы не вытекают, будучи “выражением внутренней закономерности человеческой жизни”. Там, где требования жизни соблюдаются, нравственный закон имеет силу закона биологического. Высшее благо поэтому — совершенная человеческая жизнь, в которой индивид достигает полного развития и проявления всех своих сил. Но жизнь разнообразна, и в этом ее совершенство. Поскольку же нравственность индивида укоренена в особенностях его жизнепроявления, то нам не избежать вывода о том, что нравственность англичанина отлична от нравственности негра и даже что она должна законно разниться у мужчины и женщины, купца и профессора и т. д. (а также, добавили бы мы, у киллера и того, кто спасает его жертв). Нельзя, однако, не признать и общие нравственные нормы, “но только в ограниченном виде”, поскольку основные черты организации и условий жизни одинаковы у всех людей… 11.
Ж. М. Гюйо (1854–1888), “французский Ницше”, также приносил присягу на “книге науки”, но его витализм был значительно менее филистерским и обнаруживал черты энтузиастического романтизма. Гюйо резко критиковал как эгоистический, так и альтруистический гедонизм английских утилитаристов: удовольствие является не целью нашей жизненности, но лишь ее проявлением, равно как и страдание, избегать которого — все равно, что бояться глубоко дышать, так и эволюционизм Спенсера: все требования моих подсознательных накопленных инстинктов могут в один миг рухнуть перед решительностью моей свободной воли 12. Основным началом нравственности является принцип “расширения и плодовитости жизни”, в коем сливаются и эгоизм, и альтруизм, а долг (который, как у Паульсена, также не имеет санкции ни от Бога, ни от совести) должен быть заменен сознанием “внутренней мощи”. Гюйо предлагает радикально переосмыслить основной этический императив: от я могу, потому что я должен следует отказаться в пользу я могу, следовательно я должен 13. Понятие долга замещается другими принципами этики: способностью к действию как таковому, идеей высшей деятельности, “социальным характером возвышенных удовольствий” и, наконец, стремлением к физическому и моральному риску. Человеку не на что надеяться в этом мире помимо самого себя, но нет ли истины в мифе о Геркулесе, который помогал своей матери-природе освобождаться от порожденных ею уродств и воздвиг над землей сверкающий небосвод? И не можем ли мы, свободные существа (для которых место молитвы заступает созидательный труд), блуждая в океане этого мира, как на корабле без руля, сами сделать этот руль 14?!
Длинный список редакций натуралистической этики ХХ столетия, который привела Пиама Павловна, нуждается лишь в одном существенном дополнении — мировоззрении постструктуралистского мифотворчества, которое можно было бы скорее определить даже не столько как мировоззрение (если в мировоззрение, конечно, не включать и “снятие” всякого мировоззрения), сколько как Zeitgeist — “дух времени”. Этические установки сознания постструктуралистов, основной составляющей в которых является неофрейдизм (их теснейшая связь с главой парижских фрейдистов Ж. Лакана оказалась для всего направления в известном смысле определяющей), наглядно демонстрируются в незаконченной монументальной “Истории сексуальности” М. Фуко (1976–1984), который нашел возможности для внедрения в него ницшеанства (что, в общем-то было не очень сложно сделать) 15.
Фуко, как следует из пролегомен, появившихся во введении ко второму тому его антропологической эпопеи, претендовал на авторизацию двух основных открытий в области этики. Первое состояло в том, что предыдущие истории нравственности писались как истории систем морали, основанных на запретах, тогда как он открыл возможность написания истории этических проблематизаций, исходя из технологии себя (techniques de soi); речь идет об историческом становлении такого самоосознанного поведения индивида, которое позволяет ему стать сознательным этическим субъектом, преодолевающим заданные и социально санкционированные коды поведения. Другой презумпцией Фуко было обнаружение того факта, что Фрейд открыл вовсе не мир бессознательного как таковой, но только его “логику” (обратим внимание на абсурдность словосочетания “логика бессознательного”), а сам психоанализ стоит в одном ряду с “практиками” исповеди и покаяния, а также тех “развитых форм признания”, которые сложились в рамках судебной, психиатрической, медицинской, педагогической и других практик. Тот субъект истории, над которым работал Фуко, есть человек желающий (l’homme d№sirant), а новая антропология есть генеалогия человека желающего — почти генеалогия морали Ницше. Эта генеалогия позволяет выявить тот факт, что технология себя оказалась недооцененной в истории и нуждается в реабилитации. Причина тому — двойственная роль христианства в человеческой истории (а это, не забудем, история искусства существования как техники жизни). С одной стороны, христианская духовная практика является прямой наследницей греко-римской заботы о себе, этической работы (Фуко пишет, в частности, о “практике супружеской верности” как об одном из этических упражнений 16), с другой — христианство оказывается явным шагом назад в сравнении с античностью: христианский “практик” ориентируется больше на соответствие определенному кодексу поведения (связанному с “Отправлением пастырской власти”), эллинский — на “формы субъективации”. Отправная точка адекватной категоризации морали — греческое “использование удовольствий”, коим соответствуют, на совершенно равноправных основаниях, четыре “главнейших оси опыта”: отношение зрелого мужа к телу, к супруге, к мальчикам и, наконец, к истине 17. Каждая из этих четырех привязанностей-практик была для гармоничного эллина модусом подлинного “искусства существования”, а тот ригоризм, на котором настаивало христианство, — лишь одним из видов технологии себя, на языке Фуко — “этической заботы, касающейся сексуального поведения” 18.
3. Вывод Пиамы Павловны о том, что представители натуралистической этики не могут дать обоснования объективности нравственных норм и разрешить вопрос, в чем сущность нравственности, представляется совершенно бесспорным потому, что в их обосновании морали нарушается логически авторитетнейший принцип достаточного основания. Причиной этого является сама натуралистическая гетерономность в понимании нравственности, при которой она дедуцируется из вненравственных (притом не сверх-нравственных, но ниже-нравственных) оснований.
Принципы удовольствия и пользы не могут быть такими основаниями потому, что они сами по себе нравственно совершенно нейтральны и могут быть нравственными лишь тогда, когда нравственны мотивы действующего субъекта; когда же эти мотивы безнравственны, то безнравственны и они, но в любом случае нравственное содержание поступка не определяется ими, но, наоборот, привносится в них независимыми от них нравственными установками. Принцип эволюции не может быть основанием нравственности потому, что последняя есть сфера только человеческого мира, но никак не дочеловеческого, в коем действуют не нравственные мотивы, но лишь инстинкты, даже высокая степень сложности и развитости которых (в случае с отдельными видами) не может заполнить той глобальной пропасти, которая отделяет их от свободного нравственного выбора, и между одним и другим не может быть никаких “связующих звеньев”. Принцип социологический не может быть таким основанием потому, что его объяснительная сила существенно снижается наличием логического круга: нравственность индивида дедуцируется из социально-экономических отношений, которые сами, в свою очередь, необъяснимы без учета нравственных (соответственно, безнравственных) установок участвующих в них и созидающих их индивидов; другим дефектом этого принципа является то, что в своем практическом осуществлении он основывается на прямом отрицании того, что следует из второй формулировки категорического императива Канта: отдельная личность здесь всегда есть только средство для интересов “больших чисел”, но никогда не цель-в-себе. Наконец, принцип полноты жизненности не может быть ни объяснением, ни критерием нравственности потому, что жизненность как таковая может проявляться с нравственной точки зрения в самом широком спектре возможностей (от направленности жизненной силы у матери Терезы до ее направленности у маркиза де Сада). Поэтому исключительно характерно, что даже наиболее лояльный к нравственности “виталист” профессор Паульсен (который не провозглашал открыто ни идеал “по ту сторону добра и зла”, как Ницше, ни, как Гюйо, “нравственность без обязанностей и санкций”) приходит к нравственному релятивизму, считая вполне последовательно, что нравственностей может быть столько, сколько народностей и профессий, благополучно возвращаясь в самом конце века самодовольного научного прогрессизма к “философии жизни” Протагора, а также Калликла и Тразимаха, которых пытался разубедить в подобных взглядах платоновский Сократ 19.
Оценивать возможность обоснования нравственности на базе различных версий фрейдизма я предоставлю читателю. О версии, представляемой технологией себя Фуко, можно сказать, что она с духовной точки зрения представляет собой особый интерес потому, что по слову святителя Григория Паламы, “ум, отступивший от Бога, становится или скотским или бесовским”, а отстаиваемый здесь человеческий идеал явно открывает какое-то третье состояние, которое не дотягивает до бесовского за отсутствием, несмотря на попытки имитации ницшеанства, реальной “воли к власти” и отличается от животного вследствие ущербности своего биологизма. Ущербность же эта видится в том, что само желание “желающего человека” Фуко обращено в конечном счете не на какое-либо другое существо в этом мире, а на самого себя. То, что признанный вождь постмодернизма не увидел в христианской духовной практике чего-либо больше технологии себя, вполне закономерно, ибо от него было бы более чем странно ожидать, выражаясь словами Пиамы Павловны, “прорыва к трансцендентному”. Несправедливо то, что Фуко приписывает свое мироощущение безграничного эгоцентризма (причем не героического, каким он был, к примеру, у М. Штирнера, автора знаменитого “Единственного и его собственности”, и даже не содомического, но, обращаясь к другим библейским реалиям, скорее онанистического оттенка) 20 всегда социально мыслившим эллинам. В любом случае очевидно, что здесь — кульминация этического натурализма, так как “технология себя” открыто ориентируется на ту антропологию, по которой человек есть лишь тело и “вожделеющая часть” души. В этом Фуко решительно отходит от симпатичного ему в других отношениях Платона, ибо последний еще до христианства различал в составе человеческого естества третью часть — область разумного, целеполагающего, самополагающего и управляющего двумя другими частями духа, который в этом земном мире продолжает оставаться гражданином мира трансцендентного 21. И это дистанцирование вполне понятно, ибо с признанием одного этого “двойного гражданства” субъекта нравственного сознания и действия, которое впоследствии было глубоко осмыслено Кантом, все ветхие постройки натуралистической антропологии и, соответственно, этики разрушаются, как карточный домик.
Окончание. Начало см. № 4(22) за 1999 г.
Предваряя свои новые схолии к тексту Пиамы Павловны, считаю нужным с самого начала отметить, что теперь наши с ней задачи в сравнении с предыдущим диалогом значительно усложняются. В самом деле, сделать вывод о несостоятельности натуралистических обоснований нравственности исходя из натуралистической трактовки человека как родовой или индивидуальной психосоматической организации (каковым его видели большинство персонажей нашего предыдущего разговора — начиная со Спенсера и кончая Фуко) или как “социальной формы движения материи” (так в свое время определил человека один из ведущих наших специалистов по истмату) сравнительно несложно. Для этого вполне достаточно обратить внимание на одномерность соответствующей антропологии и на то, что нравственное никак из до-нравственного выведено быть не может (ибо в данном случае нарушается почтенный принцип достаточного основания). Совсем иное дело — антинатуралистические концепции нравственности, предполагающие, во-первых, антропологию принципиально неодномерную и, во-вторых, тот немыслимый даже для самого высокого и респектабельного “натурализма” (включающего в “природное” не только биологические и социальные инстинкты человека, но и все “души прекрасные порывы”) подход к нравственному, при котором оно не сводимо к любой “природности”. Как любые многомерные феномены, эти концепции и сами по себе сложны, и отличны друг от друга; они составляют в сущности различные “этические миры”, объединяемые лишь витгенштейновскими “семейными сходствами”, а не теми теснейшими узами взаимодополнительности, которые связывают, к примеру, марксизм и фрейдизм в натурализме французского постмодерна.
Сложность предмета, точнее, исходя из только что сказанного, предметов обсуждения предопределяет не только наши неизбежные аберрации, но и “разночтения”, которые обусловливаются и нашей личной заинтересованностью в теме. Натуралистические концепции этики вызывали у нас, помимо осознания их логической несостоятельности, также и солидарное чувство неприязни, тогда как их антиподы, напротив, — чувство нескрываемой симпатии; но симпатизируют, как правило, не всему одинаково, и поэтому здесь ситуация сходна с той, когда, как заметил еще Аристотель в связи с Любовью и Враждой у Эмпедокла, вторая скорее объединяет, а первая разъединяет 22.
Завершаю эту преамбулу своей готовностью следовать плану диалога, предложенному Пиамой Павловной, начав с ее общей классификации антинатуралистических концепций этики, продолжив соображениями в связи с каждым из очерченных ею концептуальных блоков и завершив попыткой, выражаясь ее словами, “показать, в чем состоит сила и слабость каждого из них”.
1. Тройственная классификация антинатуралистических концепций этики, которую предлагает Пиама Павловна, представляется и мне вполне оправданной и достаточно исчерпывающей. В нее включаются, во-первых, Кант (и справедливо, ибо хотя хронологически он еще только предваряет рассматриваемый нами период, но, как она совершенно верно отмечает, его влияние на весь этот период “трудно переоценить”), во-вторых, аксиологическая континентальная и частично аналитическая британская этические традиции XIX–XX вв. и, в-третьих, этика теистическая. В несколько большей унификации нуждается, конечно, второй блок, который включает в себя очень многое, но, как мы убедимся ниже, содержит в себе действительно нечто свыше механического объединения основных европейских антинатуралистических концепций определенного периода.
В том, что они антинатуралистичны в буквальном смысле, сомневаться также не приходится — все они, начиная с кантовской, строятся через прямое оппонирование натуралистическим концепциям различного объема содержания.
Но вот положительная родовая характеристика представителей всех этих течений как стремившихся создать абсолютную этику нуждается, на мой взгляд, в больших уточнениях чем те, которые были предложены. Названная этика, по определению Пиамы Павловны, предполагает:
(1) рассмотрение нравственного начала как “самоценного, как цели самой по себе”;
(2) рассмотрение человека как “существа нравственного по своей природе”.
Оба указанных признака “этического абсолютизма” не совсем нормативны 23. Пункт (2) нуждается, помимо этого, и в дополнительной оговорке, а именно, что человек в антинатуралистических концепциях есть существо, имеющее возможность быть нравственным, ибо если бы он считался нравственным по природе,то эти концепции были бы как раз натуралистическими, пусть и в таком возвышенном смысле, как стоические, руссоистские или юмовские, но тогда отсюда сразу надо было бы исключить этику Канта, “коперниканский переворот” которой и состоял в том, что, согласно этой этике, ценностный мир, в котором нравственное является высшей ценностью, созидается действующим субъектом в качестве того, что принципиально ново в сравнении с его “природой” и никак (в чем и отличие от любых форм этического сентиментализма) к ней не сводимо 24. Что же касается пункта (1), то ему соответствует в строгом смысле как раз только кантовская этика и то только в одном ее, пусть и важнейшем, но все же не единственном измерении. В связи с феноменологией уже требуются более серьезные дифференциации. У Н. Гартмана нравственное действительно в определенном смысле завершает ценностный ряд. Но вот у М. Шелера оно относится к третьему уровню “ценностных модальностей” (оппозиция справедливое/несправедливое) наряду с ценностями эстетическими и гносеологическими (которые стремится реализовать философия) и с ценностями культуры. Высшей же ценностной модальностью, четвертой по “рангу” и четко отделимой от той, в которую включается нравственное, оказывается модальность священного (оппозиция святого/несвятого), являющая себя только в тех предметах, которые в интенции даны как абсолютные, и все остальные ценности, в их числе и нравственные, являются ее символами 25. Более того, Шелер, о котором заслуженно много говорит Пиама Павловна, строит свою интуитивистскую аксиологию на постижении “ранга” той или иной ценности, которое осуществляется в особом акте их познания — внутренней “удостоверенности в предпочтении” высших рангов низшим, в том числе священного нравственному. Что же касается концепций теистических, то они — и в том их реальное расхождение с кантовской — считают нравственность лишь средством, хотя безусловно необходимым, но еще не достаточным для реализации высшей цели человеческого существования, а никоим образом не целью, о коей было сказано, что не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 Кор 2:9), тогда как о нравственном ухо неоднократно слышало и на сердце человеку оно также приходило.
2. Переходя к отдельным антинатуралистическим “блокам” в этике, начну в предложенном порядке с кантовского.
2.1. Изложение принципов кантовского этического перфекционизма у Пиамы Павловны поистине “перфектно”; сказанное относится также к раскрытию ею кантовского обоснования нравственного действия через одну только автономию доброй воли с исключением из области нравственного любых природных влечений, равно как и к выявлению важнейшего содержания его концепции “двойного онтологического гражданства” человека как гражданина царств природы и свободы (отмечу при этом, что у Канта не этика строится на основании онтологии, а наоборот — “драгоценность” практического разума требует допущения нужной для ее хранения “шкатулки”). В уточнении нуждаются лишь два момента.
Первое. Мнение, будто “Кант стремился сохранить основное содержание христианской этики, но при этом освободиться от религиозных предпосылок ее — от учения о Боге и бессмертии души. Правда, полностью освободиться от этих предпосылок Канту не удалось…”, относится к числу хотя и принятых, но отнюдь не бесспорных. С конца XVIII по конец ХХ вв. число работ на разных языках (в их числе и на русском), специально или контекстно затрагивающих сложнейшую тему “Кант и религия”, могло бы составить хорошую библиотеку, и попытаться еще раз серьезно разобраться с ней в рамках нашего диалога совершенно нереально. Но думаю все-таки, что констатировать неудачу попыток Канта “освободиться” от религиозных предпосылок христианской этики при желании сохранить ее “материю” не совсем корректно — за отсутствием самого стремления к этому “освобождению”. Чтобы утверждать обратное, надо счесть либо лицемерием Канта, допущенным по соображениям чисто конъюнктурным, либо отражением его собственного непонимания всей своей системы его знаменитое откровение о прямо противоположном “освобождении” в знаменитом предисловии ко второму изданию “Критики чистого разума” (1787): “Поэтому я должен был устранить знание, чтобы освободить место вере” (Ich musste also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen) 26. Но думается, что вряд ли кто-либо, кто представляет себе личность Канта, отважится на подобное заключение 27. Не противоречит цитированному “меморандуму” Канта и даже самый его “крамольный” с точки зрения его теистических критиков трактат “Религия в пределах только разума” (1793). В предисловии ко второму изданию, появившемуся год спустя, он очень аккуратно уточняет, что “религия в пределах только разума” означает ограничение “пределами” не столько религии, сколько разума, поскольку “откровение” и “чистая религия разума” соотносятся там как два концентрических круга, из которых первый вмещает в себя второй 28. Правда, по предисловию к первому изданию эти круги можно было представить себе скорее как рядоположные, но зато уж никак не в том смысле, чтобы первый круг отрицался вовсе или даже включался во второй 29.
Что правда, то правда: Кант менял свои позиции и в связи с “институтом” теологии, и в связи с самим ее предметом, и был поистине одержим идеей построения самодостаточного нравственного идеала, который мог бы оправдать императив совершенно “бескорыстного практического разума”, мотивировкой коего было бы одно безусловное чувство долга без каких-либо иных “компенсаций”, даже такой, как вечное блаженство. С позиций последовательного и конфессионального теизма это, конечно, очевидная аберрация, ибо на бескорыстие в абсолютном смысле может претендовать только Существо Нетварное, но никак не тварное, в “сущности” которого, говоря языком средневековых схоластов, не заложена необходимость его “существования”. Но, во-первых, у Канта здесь реализовались и собственно теологические сверхзадачи, прежде всего обоснование бытия Бога через целеполагание практического разума (которое он отличал от того, что можно условно назвать мотивом этого разума 30), призванное заместить псевдодоказательства от метафизики (снижающие, в параметрах его системы, Божественное бытие до уровня “явления”). Во-вторых, кантовская настойчивость на самодостаточности чувства долженствования достаточно органично вписывается во вполне христианские дебаты Нового времени, например, в ту знаменитую полемику, которую в конце XVII в. вели два виднейших французских богослова Ж. Боссюэ и Фенелон (Ф. де Салиньяк де ля Мот), из которых второй также отстаивал возможность и даже необходимость служения Богу и без перспективы вечного блаженства. Поэтому, признавая полную внецерковность, частичную внеконфессиональность 31 и недостаточную последовательность теизма Канта, мы бы все же не рискнули говорить о его стремлении к освобождению этики от “христианских посылок”, особенно если учесть, что одна из самых важных таковых посылок — осознание ограниченности возможностей человеческого разума и необходимости для него “чувства дистанции” по отношению к Трансцендентному — присутствовала у него в значительно большей степени, чем у тех философов, которые в этике, как и в метафизике, исходили из той презумпции, что любое бытие, в том числе Божественное, делится на человеческие понятия без остатка, но почему-то считались и считаются очень даже христианскими (с этим недомыслием связано, к примеру, и то обстоятельство, что у нас Гегель уже с первой половины XIX в. нередко считался чуть ли не возродителем христианства, “пострадавшего” после разрушительной работы кантовской философии).
Второе. Как ни удивительно, но этический абсолютизм Канта был менее абсолютным, чем это обычно кажется, ибо распространялся… только на “абсолютное”, а не на “относительное”. А именно, императив безусловного долженствования оказывался в своих правах в связи с человеком как гражданином умопостигаемого мира (ноуменальным субъектом), но не земного (субъектом эмпирическим). Этот вывод следует из сопоставления “Критики практического разума” (1788) с лекциями “Антропология с прагматической точки зрения” (последние прижизненные публикации — 1798 и 1800), на которые, как правило, редко ссылаются как почитатели, так и критики философа. Оставив чистое долженствование для первого субъекта, Кант обеспечивает второго практическими советами, которые отстоят от требований перфекционизма как земля от неба: молодым людям рекомендуется воздержанный образ жизни только потому, что невоздержанность истощит их возможность получать нужные наслаждения в будущем, замужним женщинам — не отвергать своих “искателей”, потому что все они могут пригодиться, а тем и другим — советы в духе расчетливого эпикурейства 32. Подобный рецидив эвдемонизма “с черного хода” вряд ли объясним тем, что Кант на старости лет во всех отношениях “расслабился” и решил отказаться от своего высокого нравственного учения 33. Скорее он как “экспериментатор” продемонстрировал инверсию своего метода: в “Критике практического разума” и в “Религии в пределах только разума” он в определенном смысле дедуцировал онтологию из практического разума, а здесь — нравственность из онтологии индивида, из того самого “двойного гражданства”, отдавая все должное и “эмпирическому индивиду”. Когда романтики, чья либертинистская этика кажется лишь “диалектическим отрицанием” кантовского перфекционизма, будут развивать идеи множественности ипостасей одного и того же индивида (каждая из которых вполне автономна), это будет развитием пусть и маргинальной, но вполне реальной перспективы, заложенной в многомерном мире кантовской философии.
2.2. Континентальных аксиологов и “островных” этиков сближают не только отдельные эксплицитные признания внутреннего родства, вроде того, которое выразил Дж. Мур, признав в 1903 г., что из всех философов ему ближе всего Ф. Брентано. Глубинная их близость видится в том, что их изыскания были новой и весьма плодотворной попыткой возрождения платонизма после рецепции кантовского критицизма. По-другому и не могло быть, ибо именно платонизм является базовой альтернативой любым натуралистическим построениям. В обоих случаях принимается эйдетическая трактовка первоосновных этических категорий и реальностей: у последователей Брентано — в виде иерархии благ, образующих организм умопостигаемого космоса и определяющих природу своих материальных носителей, но не определяемых последними, у Мура и тех, кто последовал за ним — в виде признания “атомарности” — неделимости и неопределимости — понятия блага и невозможности его редуцирования до каких-либо “проясняющих” понятий типа пользы, поскольку последние определяются им и потому не могут прибавить нам знания о нем самом 34. Первая из этих моделей восходит к иерархии благ по “Филебу” (66а-с), вторая — к обоснованию неопределимости, апофатичности блага в “Государстве” (505b–506b). Другое сходство — его отмечает и Пиама Павловна — в интуиционистском понимании эйдетических ценностей и, соответственно, блага, а также и других этических категорий, и оно следует из первого: то, что не может быть ни из чего логически выведено, может быть только постигнуто посредством особого “умозрения”. Третье сходство — проблема “критериологии”, или поисков тех носителей этого “умозрения”, на которых можно было бы ориентироваться, живя в эмпирическом мире: функцию философов, которым Платон доверял управление государством, выполняют у Брентано и у последователей Мура особым, “эйдетическим” образом опытные люди, аутентичные носители мудрости и культурных ценностей, чьи суждения по “применению интуиций” можно рассматривать как образец для других.
Наконец, их сближают с Платоном и аристотелевские компоненты в аргументации их критиков: основная претензия в обоих случаях состояла в том, что предлагавшиеся эйдетические реальности слишком далеки от практической жизни, не предлагают проверяемых критериев и не дают надежных методов для решения конкретных поведенческих проблем 35 (в случае с британскими аналитиками имели место и “аристотелевские” претензии в связи со злоупотреблениями математическими аналогиями при анализе этических категорий 36). То, что Мура и его последователей обстреливали такого рода аргументами, неудивительно: речь идет о родине утилитаризма. Интересно, что аналогичные претензии в Германии были выдвинуты такими далекими от утилитаризма философами, как экзистенциалисты О. Больно (1903–1990) и М. Хайдеггер. Второй, тоже в аристотелевском духе, подвергал критике основные аксиологические понятия: благо определяется через ценность, которая, в свою очередь, определяется через благо; таковы же взаимоотношения ценности с понятиями значимости, цели и основания; иначе говоря, аксиология вводит нас в логические круги. Будучи, таким образом, псевдопонятиями, ценности ответственны за псевдосуществование индивида (не забудем об очень значительной ницшеанской составляющей в экзистенциализме Хайдеггера): человечество наивно считает, что любое покушение на них грозит крушением его существования 37. Отличие Хайдеггера от Аристотеля состояло, однако, в том, что второй, дезавуируя платоновский идеализм, пытался заместить его научным реализмом, а не движением “от логоса к мифу”, не претендовал на роль жреца-гиерофанта бытия 38 и не выдавал собственные игры с языком за язык самого бытия. Впрочем, пафос экзистенциалистов понятен: философия ценностей имела (при определенной перспективе, а именно при обращении к “логике сердца”, которую взыскал вслед за Паскалем Шелер), значительные возможности для обоснования новой экзистенциальной философии, и ее соперники сделали все возможное, чтобы ее “нейтрализовать”.
Сказанное Пиамой Павловной о континентальных аксиологах нуждается, на мой взгляд, лишь в одном уточнении и двух небольших дополнениях. Г. Лотце не “ввел” категорию ценностей в философию — в древней философии это сделали автор псевдоплатоновского “Гиппарха” и стоики, а в философии новой — в наибольшей мере тот же Кант, на которого также опирался Лотце, действительно замечательный и сейчас практически забытый уже философ, хотя он и полемизировал с формалистическим принципом его этики (кстати сказать задолго до Шелера, который здесь был менее оригинален, чем принято считать) 39. Заслуга Лотце скорее состояла в том, что после его публикаций (а также после “переоценки всех ценностей” у Ницше) начался тот “аксиологический бум” в философии конца XIX — начала ХХ вв., о котором я уже писал на страницах этого издания. Дополнения же могут быть связаны с тем, что в числе аксиологов-антинатуралистов было бы уместно назвать еще одного выдающегося ученика Брентано — А. фон Майнонга. Уже в книге “Психологическо-этические изыскания по теории ценностей” (1897) он подверг остроумной критике многие основоположения аксиологического субъективизма, считая несостоятельным выводить ценность объекта из его желаемости или способности удовлетворять наши потребности, поскольку отношения здесь скорее противоположные: желательно для нас и удовлетворяет наши потребности то, что мы уже считаем для нас ценным. Майнонг, правда, считал, что субъективность ценностных переживаний доказывается тем, что один и тот же объект вызывает различные ценностные чувства у разных индивидов, а порой и у одного и того же, но и при этом он видел в чувстве ценности лишь симптом ценности, единственное феноменально доступное нам в ней, а следовательно, оставляющее место и для ноуменально ценного, которое не ограничивается рамками субъекта. Позднее в “Основоположении к общей теории ценностей” (1923) он определяет “личную ценность” в качестве пригодности объекта служить благодаря своему свойству предметом ценностных переживаний, ценность же как таковую — как значение бытия объекта для субъекта, и наряду с личными ценностями констатирует наличие и надличностных, “должных быть ценностями для всякого субъекта” 40 — истины, добра и красоты. Два других ярких представителя феноменологии — Г. Райнер, который в книге “Принцип добра и зла” (1949) пытался отразить удары Хайдеггера по аксиологии и отстаивал прежде всего нравственные ценности (опираясь и на данные антропологии), а также Р. Ингарден, развивавший аксиологические идеи Гуссерля и Шелера и различавший носителей этических и эстетических ценностей: первыми являются личности, вторыми — произведения искусства.
Из англоязычной антинатуралистической этики хотелось бы уделить несколько большее внимание тому направлению, которое начинается с упомянутого Пиамой Павловной Г. Причарда (незаслуженно забытого сейчас даже в англоязычой литературе) и получило обозначение деонтологии — творческого синтеза основных установок Канта и Мура 41]. Основной акцент деонтологов — рассмотрение “правильного” (right) как категоризации столь
же “атомарной” и неделимой sui generis, как и “благое” (good). Полагая, что таковым является только второе, Мур, по мнению деонтологов, сам делает уступку утилитаризму (в английской терминологии консеквенциализму — см. прим. 2 на с. 230), сводя правильное к “производящему максимальное благо”. В своем знаменитом эссе “Основывается ли нравственная философия на ошибке?” (1912) Причард, испытавший влияние также Дж. К. Уилсона, утверждал, что одной из основных ошибок этики была попытка рационального обоснования наших обязанностей. Нравственное обязательство не может быть трактуемо как действие, должное быть совершенным потому, что последствием этого будет большее благо, чем при совершении действия альтернативного. Калькуляции последствий здесь не работают: мы можем либо иметь непосредственное усмотрение долженствования, либо нет, и основная задача этики — в том, чтобы довести до сознания индивида незаменимость этого “непосредственного видения” долга 42.
Проблемой анализа суждения Это действие правильно занимался также Ч. Броуд, один из старейшин метаэтики, в своей известной в свое время книге “Пять типов этической теории” (1920). У. Росс, первостатейный исследователь Платона и Аристотеля, в своем классическом трактате “Правильное и благое” (1930), а также в “Основаниях этики” (1939) принимает деонтологический интуитивизм Причарда 43, развивая его в отождествлении суждений Это действие правильное = Это действие должное быть совершенным, но вводит также понятие презумпции долга, отчасти юридического происхождения (prima facie duty). Последнее понятие, в свою очередь, отождествляется с понятием долга, который является актуальным во всех случаях, кроме тех, в которых перевешивают более значительные нравственные мотивы. Например, долг выполнять свои обещания является актуальным совершенно независимо от последствий, но может быть в той или иной ситуации “нейтрализован” более весомым долгом — не совершать злодеяния или препятствовать его совершению. Соответственно, у нас нет общих правил, помимо того же конкретного “усмотрения”, какой из первичных обязанностей отдавать предпочтение в случае их “конфликтов”, но Росс видит критерий нравственной истины и в суждениях “лучших людей”, которые не менее надежны, чем свидетельства органов чувств для естествоиспытателей 44. Отличие этой позиции от кантовской в том, что она все же не является абсолютистской (см. прим. 2 на с. 230), ибо по кантовской логике мы должны выполнять свои обещания даже если эта максима вступит в конфликт с максимой “Не совершай злодеяния” (но в таком случае, разумеется, мы уже не сможем считать безусловной вторую максиму). Среди современных философов, которых иногда относят к деонтологам, можно отметить американца Дж. Ролза, чьи книги “Теория справедливости” (1971) и “Политический либерализм” (1993) стали философскими бестселлерами. Ролз является последовательным оппонентом утилитаризма в социальной философии и считает “правильное” не только не сводимым к “благому”, но даже приоритетным в сравнении с ним. В соответствии со своей трактовкой деонтологии он настаивает на том, что человеческие права являются не “конвенциональным институтом”, но имеют безусловный характер, и пытается строить социальную философию на императиве честности.
2.3. Теистическая этика представлена неотомистами, представителями протестантской теологии и русской религиозно-философской мысли, среди которых Пиама Павловна специально выделяет Н. О. Лосского, вероятно, потому, что его “нравственная философия <…> питается не только от православной традиции, но и от русской литературы XIX в., особенно творчества Ф. М. Достоевского”. С оценки основного этического произведения данного мыслителя и намечаются наши самые решительные с ней “разночтения”. Связаны они, вероятно, прежде всего с тем, что для меня при начальной оценке какого-либо произведения решающее значение имеет вопрос о его жанровой идентичности. С этой точки зрения “Условия абсолютного добра” (1944) никак не сопоставимы типологически с результатами вышерассмотренных работ аксиологов и аналитиков, потому что в тех случае мы имели дело с собственно философскими исследованиями, а в данном — с полупонятийно-полуэкспрессивным философствованием, богословствованием и морализаторством, которое часто считается спецификой “русской философии”, коль скоро отрицается, что она должна относиться к философии как таковой как вид к роду. Сказанное относится также к “софиологии”, “русскому космизму”, “преображенному эросу”, увлечение которыми до сих пор серьезно мешает изучению сравнительно скромной по объему, но зато реальной профессиональной (университетско-академической) философии в России.
“Условия абсолютного добра” — один из шагов, предпринятых Николаем Онуфриевичем к построению своей “полной философской системы”, фундаментом которой он считал свою концепцию интуитивизма (ни в коем случае не путать с вышерассмотренным аксиологическим и этическим интуиционизмом!) и учение о “субстанциальных деятелях”, скроенных по меркам лейбницевских монад, но ничего существенно нового к объему последнего понятия не привносящих. В работе по аксиологии он отчасти воспроизводит австро-германские теории ценности и отчасти критикует их, привлекая речения Отцов Церкви и православных подвижников 45, а после этого этического труда появляется труд по эстетике 46. “Условия абсолютного добра” несколько напоминают выходящие у нас сейчас сотнями (по грантам) дилетантские лекции по философии, что поразительно, поскольку Лосскому принадлежала в свое время заслуга лучшего перевода “Критики чистого разума” на русский язык. Они обращены к не имеющей философской подготовки аудитории. Одно из значительных сходств с этого рода литературой — цитации из типологически несопоставимых памятников письменности, которые отражают непонимание различий между метрами и килограммами и создают у неподготовленного читателя впечатление будто философия есть дело всем доступное 47. О характере синтеза у Лосского дают представление те “теологические главы”, в которых он пытался помочь уточнению тринитарного догмата ресурсами своего учения о “субстанциальных деятелях” (допускающих, оказывается, и “православное” учение о перевоплощениях 48), выяснению природы добра через смесь шелеровских “рангов ценностей” с Божиими (в трактовке автора) заповедями, а также “о природе сатанинской” (наивно исследуемой Николаем Онуфриевичем по материалам “Села Степанчикова”, “Идиота” и более всего, конечно, “Братьев Карамазовых”), но за демонологией 49 следует… теория духа Шелера и Л. Клагеса (коим предшествует “абсолютность нравственной ответственности” по материалу того же Шелера, “Отверженным” В. Гюго, “Анне Карениной” и рассказам о жизни русского художника А. А. Иванова).
Проблемы вызывает и та заявка на создание нового типа этики, которую достаточно сочувственно цитирует Пиама Павловна. Речь идет о том, что Николай Онуфриевич решил преодолеть по определению непреодолимую взаимопротивоположность этики автономнойи этики гетерономной в виде нового “синтеза”, который он предлагает в своей этике. Нормы этой этики, например, люби ближнего как самого себя не гетерономны, поскольку обязательны не потому, что на то есть приказ, хотя бы и высший, что “так заповедал Бог”, но потому, что они органичны для сознания каждого человека, даже и атеиста, и не автономны, а потому не отмечены “соблазном гордыни” кантовской нравственной философии, ибо в них нет “самозаконодательства”, и они “не творятся моей волей, а содержат в себе усмотрение объективной ценности должного” 50. Логических шероховатостей в этой новой этике слишком много, чтобы оставить их незамеченными:
1) различия между этической автономией и гетерономией заключаются вовсе не в обязательном или добровольном характере соответствующих нравственных императивов (они в одинаковой мере добровольны и общеобязательны в обоих случаях), а в том, что понимается под источником нравственного сознания: человеческий практический разум (как у Канта) или Откровение (как в конфессиональных системах);
2) приведенные заповеди, например, о любви к ближнему, не существуют в человеке сами по себе, а имеют библейское происхождение, и то обстоятельство, что мы к ним привыкли (но отнюдь не интериоризировали, не присвоили их, как полагал Николай Онуфриевич) означает их “естественность” не в большей степени, чем наша привычка к телефону — то, что он был у человечества всегда;
3) отличие “теономной этики” от автономной на том основании, что нравственные нормы не творятся моей волей, но содержат усмотрение объективной ценности должного, во-первых, логически, а во-вторых, фактически ошибочно: с одной стороны, Кант никогда не настаивал на том, что автономный практический разум не основывается на объективной ценности должного (ср. вторую формулировку категорического императива, по которой к любому человеку следует относиться только как к цели, а не как к средству, ибо его личность обладает непреходящей ценностью), с другой — если нравственные нормы “не творятся волей”, то изобретенная Лосским этика не имеет отношения к человеческой деятельности, а потому определению этики не соответствует.
3. Упомянутая Пиамой Павловой возможность оценить достоинства и недостатки каждого из трех больших “блоков” антинатуралистических концепций этики является слишком ответственной задачей, чтобы заняться всесторонним ее решением, тем более в рамках журнального диалога. Позволю себе поэтому ограничиться лишь несколькими тезисами.
Кантовская этическая система продолжает оставаться и к настоящему времени самой совершенной из тех, которые были созданы “в пределах только разума” вследствие перфектности как ее основополагающего принципа безусловной и очищенной от всех примесей “природности” и “консеквенциализма” свободной доброй воли, так и всей архитектоники воздвигнутого над ней априорного законодательства практического разума с четко прочерченной иерархией мотивов, императивов и максим, определяющих бытие всего персоналистического “царства целей”. Однако “один только разум”, как лучше всего показал тот же Кант, неизбежно ограничен. В кантовской системе это выражается в парадоксе нравственного абсолютизма, который в двух по крайней мере точках претворяется в релятивизм. C одной стороны, “абсолютное следование” одной априорно необходимой максиме противоречит, как было уже показано, реализации других, не менее априорно необходимых, и ведет к их релятивизации; с другой — требования нравственного законодательства распространяются только на индивида как гражданина умопостигаемого мира, в то время как ему же как гражданину мира эмпирического рекомендуется действовать в соответствии с “природной сноровкой”, а нравственным целям и средствам реального значения не придается. Если бы Кант “издал” еще один категорический императив: “Поступай всегда так, как это требует твоя природа как ноуменального субъекта и никогда — как феноменального”, это “зияние” было бы заполнено, но он этого не сделал, и притом, как было уже предположено, вполне сознательно.
Основные достижения феноменологов и аналитиков XIX–XX вв. — после искуса кантовской философии — были связаны, как уже отмечалось, с введением в этику основного философского гаранта ненатурализма — платонизма. Именно возрождение платонизма позволило феноменологам создать альтернативу кантовскому “формализму в этике” и найти для нее место в мире “материальных” эйдосов, учредив вместо “царства целей” — “царство ценностей”, внеположное эмпирическому миру, но призванное “направлять” последний. Гражданин этой страны уже не раздваивается, как кантовский индивид, коему дозволяется жить одновременно по взаимоотрицающим законам, и является безусловным реципиентом и творцом нравственных ценностей. Заслуги Мура в переоткрытии и неделимости и “атомарности”, апофатической несводимости к чему-либо другому блага, а также в интуиционистском его прочтении и обеспечении этой концепции средствами лингвофилософского анализа совершенно очевидны, равно как и заслуги деонтологистов, которые обосновали аналогичную неделимость и интуитивность чувства долженствования и невозможность сведения его к утилитаристским калькуляциям. Наиболее уязвимое место феноменологов — в недостаточной проработке собственного исходного категориального аппарата, в отсутствии дифференциации суперкатегорий “ценности” и “блага”, “цели” и “интереса”, на которую обратили внимание их недоброжелательные оппоненты. Проблемы Мура и деонтологов — в слишком расширенной трактовке “натурализма”, которое первому помешало различать благо in genere и его контекстные применения, без которых этика работать не может, а вторым позволило фактически настаивать на долге за счет ответственности (относя вторую в ведомство утилитаризма), в результате чего получается такой парадоксальный результат, как безответственное чувство долга или основанный на долге эгоцентризм. С другой стороны, последовательный этический интуиционизм трудно совмещается с критерием истины в виде “суждения лучших”, ибо сколько личностей, столько должно быть и деонтологических интуиций.
Наконец, христианская этика (разумеется в ее реальных реализациях) предлагает самое надежное онтологическое обоснование нравственности и бесконечного нравственного совершенства — на “достаточном основании” догмата о сотворении человечества по образу и подобию бесконечного личностного Бога, давшего заповедь всех заповедей — Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф 5:48). Однако в связи с возможностью построения христианской этической системы нельзя не учесть ту кардинальную дилемму, которая была проакцентирована в полемике выдающегося средневекового философа Иоанна Дунса Скота (1265/6–1308) с последователями Фомы Аквинского по вопросу о благе: является ли Бог благим потому, что он всегда желает блага, либо же, наоборот, то есть благо, чего желает Бог? Если были правы последователи Фомы Аквинского, рассуждения которых позволяли предпочесть первый способ решения вопроса, то у нас сохраняется “христианская этика”, но мы в ней лишаемся христианского Бога, Который должен измеряться, таким образом, мерками тварного и ограниченного разума. Если же был прав Дунс Скот, который предпочел второе решение 51 (а в том, что он с христианской точки зрения был к истине ближе, сомнений быть не может), то мы не лишаемся христианского Бога как Творца того, кто может мыслить о самом благе, но лишаемся “христианской этики”, которая должна обладать родовыми признаками этики как философской дисциплины и работать средствами рациональной дедукции в сфере наименее тому соответствующей — в области Откровения. Поскольку адекватно “синтезировать” взаимонесоизмеримое пока еще оказывалось не по силам даже самым крепким умам, создававшим гибрид “Евангельской этики” вначале с аристотелевской “Никомаховой этикой”, а позднее — с этиками кантовской, феноменологической и т. д., есть основания предполагать, что и дальнейшие синтезы такого рода успешными не станут.
Достаточно ограничена сфера собственно этики и в той области теологии, которая известна под названием нравственного богословия. В ее наименее адекватном, но наиболее популярном применении она была лишь внешне богословским камуфляжем (в виде курсов theologia moralis, преподававшихся в иезуитских, лютеранских или, вслед за ними, и в православных академиях, начиная с киево-могилянской) все тех же попыток построения дедуктивных систем “христианской этики” из “естественного разума”. В своем же более аутентичном исполнении эта дисциплина богословского знания содержала “собственно этику” лишь в своей апологетической части — в виде критики нехристианских (прежде всего рассмотренных выше натуралистических) концепций происхождения и сущности нравственности, тогда как ее основная, позитивная часть соответствовала тематизации наследия Отцов Церкви, связанного не с этикой как таковой, но с сотериологией и с аскетикой (предмет которых, правда, включает нравственное, но преимущественно в более общем и одновременно специальном контексте синергии Божественной благодати и человеческого подвига) 52.
Из сказанного следует, что для философа-христианина остается в области этики сравнительно скромное поле деятельности в виде критики (подразумевается в первую очередь исследовательское, а не оценочное содержание данного термина) этических и метаэтических 53 суждений и аналитики соответствующих им понятий. Однако это поле выглядит скромным именно “сравнительно”, поскольку философия в строгом смысле как особая профессиональная деятельность преимущественно и занимается критикой суждений и аналитикой понятий определенного содержательного объема. На деятельность философа-христианина может быть наложено разве только то условие, что он должен ограничить свой предмет произведениями человеческого разума, не распространяя его и на Того, Кто Сам этот разум создал, а также воздержаться от исследования механизма действия Его нетварных энергий на тварные умы и сердца. Но это условие является на деле лишь естественным самоограничением потому, что тот философ, для которого данные ограничения не значимы, вряд ли может считаться христианином. Думаю, что сказанное в разной степени применимо также в связи и с другими философскими дисциплинами, но их рассмотрение всецело выходит за предметные рамки данного диалога.
Примечания
- О своем новом подходе к самим этическим проблемам — на основании “критики” этических суждений и определении этических понятий — Мур пишет уже в первых строках предисловия к своему основному труду и в первых двух параграфах его первой главы. См. Мур Дж. Принципы этики / Пер. с англ. Коноваловой Л. В. М., 1984. — С. 37, 57–58. ↩
- Мур сравнивает попытки определения добра с возможностью определения и такого простого понятия, как “желтое”, которое можно было бы определить разве что через определенные световые волны, которые воздействуют на нас таким образом, что … вызывают ощущение желтого цвета. — Там же. — С. 66–67. ↩
- А именно, Сиджвик в “Методе этики” (1874) обнаружил логический круг в определениях Бентама, когда в одном пассаже его произведения “правильная и достойная цель человеческих поступков” определяется как “наибольшее счастье всех людей”, а в другом оказывается, что “правильное и достойное” уже есть “ведущее к наибольшему счастью всех людей”, в результате чего “наибольшее счастье всех людей является целью человеческих поступков, ведущих к наибольшему счастью всех людей”. — Там же. — С. 75–76. ↩
- См.: Государство 505b–506b, 507b–509b. Предваряя Мура, Платон показывает, что благо не может определяться не только через удовольствие и разумение, но даже через истину, подобно тому, как Солнце — источник света — не может быть адекватно постигнуто через сами “солнцеобразные” вещи — зрение и все зрительно постигаемое. ↩
- Таковы, к примеру, определения во многих философских лексиконах ценного как того, что соответствует желательному или полагаемому благим, в то время как желательное или благое там же определяются через ценное. ↩
- Мур Дж. Принципы этики. — С. 101–102. ↩
- Примером может служить авторитетное обсуждение проблемы у одного из критиков Мура — Дж. Харрисона: Harrison J. Ethical Naturalism //
Encyclopedia of Philosophy. Vol. 3 / Ed. in chief P. Edwards. NY–L., 1967. — Р. 69–71. ↩ - Пример: Wimmer R. Naturalismus (ethisch) //
Enzyklopaedie Philosophie und Wissenschaftstheorie. Bd. 2 / Herausg. von J. Mittelstrass. Mannheim etc., 1984. — S. 965. ↩ - Пример: Gawlick G. Naturalismus // Historisches Woerterbuch der Philosophie / Herausg. von † J. Ritter und K. Gruender. Bd. 6. Basel-Stuttgart, 1984. — S. 518–519. ↩
- “Ложь обладает тенденцией вызывать недоверие, недоверие обладает тенденцией разрушать человеческое общежитие. Это обобщение такого же рода, как и то, что алкоголь обладает тенденцией расшатывать нервную систему”. — Паульсен Ф. Основы этики / Пер. Л. А. Гурладий-Васильевой и Н. С. Васильева. М., 1906. — С. 14. ↩
- Там же. — С. 4, 16–18, 20–21. ↩
- Гюйо М. История и критика современных английских учений о нравственности / Пер. Н. Южина. СПб., 1898. — С. 454–456 и др. ↩
- Гюйо Ж. М. Нравственность без обязательства и без санкции / Пер. с франц. Н. А. Критской. М., 1923. — С. 140. ↩
- Гюйо М. История и критика… — С. 457; Гюйо Ж. М. Нравственность без обязательства… — С. 143–144. ↩
- См. Foucault M. Histoire de la sexualité. I. La volonté de savoir. II. L’usage desplaisirs. III. Le souci de soi. P., 1976–1984. ↩
- Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. — С. 298–299. ↩
- Там же. — С. 306. ↩
- Там же. — С. 280. ↩
- Идея Паульсена и других “виталистов” относительно возможности полного, всестороннего и гармоничного совершенства в развитии всех жизненных сил и проявлений индивида убедительно корректируется на основании того же “эмпиризма”, в частности, личного духовного опыта апостола Павла, который привел Апостола к познанию того, что “если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу” (2 Кор 4:16–17). ↩
- Уничтожающая, но справедливая характеристика фрейдистской картины мира в сознании постструктуралистов представлена в статье: Давыдов Ю. Современность под знаком “пост” // Континент. 1996. № 89 (3). — С. 301–316. ↩
- См. знаменитый аллегорический образ колесницы: Федон 246a-e, 253d; Тимей 69c-d. ↩
- Метафизика 985а 20–25. См. Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. I. М., 1975. С. 74. ↩
- В современной философии под этическим абсолютизмом понимается “взгляд, согласно которому существуют действия всегда неправильные или, напротив, всегда обязательные, какие бы последствия они ни вызывали”. Противоположностью абсолютизма считается консеквенциализм (от англ. consequence ‘(по) следствие’), при котором действия оцениваются исходя из того баланса добра и зла, который является результатом их совершения или, наоборот, несовершения. См.: The Oxford Companion to Philosophy
/ Ed. by T. Honderich. Oxf., N.Y., 1995. Р. 2. Классическим примером этического абсолютизма в указанном смысле является “максимализм” Канта, настаивавшего на том, что, например, от обязательства следовать максиме (правило, норма) не лгать не могут избавить никакие благие соображения, ибо в противном случае найдутся оправдания для нарушения любых нравственных максим. ↩ - См. в связи с этим, в частности, нашу статью: Шохин В. Классическая философия ценностей: предыстория, проблемы, результаты // Альфа и Омега. 1998. № 3(17). С. 314, а также: Доброхотов А. Вопросы и ответы об аксиологии В. К. Шохина
// Там же. С. 321. ↩ - Об иерархии ценностных модальностей у Шелера см.
Шелер М. Избранные произведения. М., 1994. С. 323–328. ↩ - Immanuel Kants Werke in acht Buchern. Ausgewahlt und mit Einleitung versehen von Dr. H. Renner. Bd. I. B., б. г. S. 14. Вариации переводов этого положения (как и прочих “ключевых пропозиций” основного труда Канта) собраны в издании: Кант И. Критика чистого разума / Пер. Н. О. Лосского с вариантами переводов на русский и европейские языки. Отв. ред., сост. и автор вступит. статьи В. А. Жучков. М., 1998. С. 43. ↩
- Разумеется, не будет этого делать и сама Пиама Павловна, чей анализ кантовской философии относится к лучшим страницам ее новейшей монографии: Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология ХХ века. М., 1997. С. 79–93 и др. ↩
- Кант И. Трактаты. М., 1996. С. 268. ↩
- Там же. С. 266. ↩
- Там же. С. 261–262. ↩
- О частичной неконфессиональности теологии Канта в рамках евангелизма можно говорить потому, что эта конфессия, отвергающая Предание в его экклезиологической полноте, предполагает, что каждый верующий в принципе является “автономным” субъектом богословского творчества, не “скованным” церковной соборностью, что, однако, никак не отрицает наличия лютеранской ортодоксии, считавшей себя компетентной судить о правильности веры как дела не только частного, но даже и государственного (с этих позиций и была направлена критика Канта, побудившая Фридриха Вильгельма II послать ему знаменитое письмо от 12 октября 1794 г., в котором он призывал философа к порядку после второго выхода в свет “Религии в пределах только разума”). ↩
- См. Кант И. Избранное в трех томах. Т. III. Антропология с прагматической точки зрения. Калининград, 1998. С. 122–123, 187–191. ↩
- “Антропология” обобщала соответствующие лекции, читанные с зимнего семестра 1772/73 по зимний семестр 1795/1796 учебного года. Показательно, что Кант, не особенно охотно публиковавший свои лекционные курсы, счел важным опубликовать именно этот. ↩
- Подробнее о концепции неопределимости блага у Дж. Мура см. в предыдущей статье в рамках настоящего диалога: Шохин В. Два типа этических концепций // Альфа и Омега. 1999. № 4(22). С. 236–237. ↩
- Согласно “Никомаховой этике”, эйдос блага не может обобщить
его частные разновидности; нельзя приобрести платоновское благо, ни осуществить в поступке, тогда как только приобретаемое и осуществляемое представляет интерес. Нет в этом благе и выражения целей, верховной из которых следует признать счастье как нечто совершенное и самодостаточное (1096b5–1097b5). См. Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. IV. C. 60-63. ↩ - В связи с обобщенными позициями критики в адрес английских аналитиков рассматриваемого направления см. Abelson R., Nielsen K. History of Ethics
// The Encyclopedia of Philosophy / P. Edwards, editor in chief. Vol. III. N.Y., L., 1967. Р. 101–102. ↩ - См. Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М., 1993.
С. 71–72, 56, 210, 361. ↩ - Ср. один из многочисленных “гимнов” бытию Хайдеггера: “…бытие одновременно пустейшее и богатейшее, одновременно всеобщнейшее и уникальнейшее, одновременно понятнейшее и противящееся всякому понятию, одновременно самое стершееся от применения и все равно впервые лишь наступающее, вместе надежнейшее и без-донное, вместе забытейшее и памятнейшее, вместе самое высказанное и самое умолчанное”.
— Там же. С. 174. Цитируемые строки находят достаточно точные параллели в “Дао дэ цзине”, мистической поэзии буддийской махаяны или ближневосточного гностицизма. ↩ - Об истории “ценностей” как философского понятия см. Шохин В. Классическая философия ценностей… С. 297–313. ↩
- Meinong A. Zur Grundlegung der allgemeinen Werttheorie. Graz, 1923. S. 167. ↩
- Термин деонтология (от греч. δέον, род. падеж δέοντος ‘нужное’, ‘должное’ + λόγος ‘учение’) по иронии истории был введен в оборот основателем того самого утилитаризма, которому объявили непримиримую войну деонтологи — И. Бентамом в 1834 г. ↩
- См. Prichard H. A. Does Moral Philosophy Rest on a Mistake?
// Mind. 1912. Vol. 21. Р. 21–152. ↩ - Так, Росс обличает и нравственный субъективизм, и идеальный утилитаризм, который “игнорирует в высшей степени личностный характер долга или по крайней мере не воздает должное”. — Ross W. D. The Right and the Good. Oxf., 1930. Р. 22. ↩
- Там же. Р. 41. ↩
- Cм. Лосский Н. О. Ценность и бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей. Париж, 1931. ↩
- См. Лосский Н. О. Мир как осуществление красоты: Основы эстетики. М., 1998. ↩
- Так, только в одной из глав, посвященных проявлениям добра в органическом мире, цитируются В. Соловьев, материалист-естествоиспытатель Э. Геккель, Аристотель, Г. Спенсер, затем отечественные авторы П. А. Кропоткин, естествоиспытатель Н. А. Северцев, биолог С. Метальников, Тургенев (рассказ “Призраки”), потом знаменитый мистик Иоанн Бонавентура, Франциск Ассизский, а далее Лермонтов (“Три пальмы”), философ-натуралист Э. Бехер и Е. Н. Трубецкой, которые до того были предваряемы Пушкиным и Шелером с У. Джемсом. См. Там же. С. 74–84. ↩
- Там же. С. 55–56, 65. Более подробно учение Лосского о перевоплощениях (переработка лейбницевского метаморфозиса) изложено в Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991. С. 304–306. ↩
- Ознакомившись с автором мирового зла через “Братьев Карамазовых”, Николай Онуфриевич рисует следующий его психологический портрет: “…жизнь сатаны полна разочарований, неудач и всевозрастающего недовольства жизнью. Таким образом, у нас есть достаточное основание утверждать, что даже сатана рано или поздно преодолеет свою гордыню и вступит на путь добра”, ссылаясь при этом и на “соображения святителя Григория Нисского” (с той же непосредственностью, как он ссылается в других случаях на Н. Гартмана или Лермонтова), который, однако, при всех своих теологуменах, таким тонким “психологом-портретистом” никак не был. См. Там же. С. 125. ↩
- Там же. С. 68–69. ↩
- Лекции по “Сентенциям” Петра Ломбардского (Opus Oxoniense III.19; ср. Reportata Parisiensia I.48). Одно из лучших изложений этических воззрений Дунса Скота в целом содержится в монографии: Gilson É. Jean Duns Scot. Introduction ses positions fondamentales. P., 1952. С. 603–624. Сама дилемма восходит, однако, уже к “Эвтифрону” из корпуса ранних платонических диалогов, где исследуется аналогичная проблема и предлагаются два способа ее решения: 1) благочестие угодно богам потому, что оно есть род справедливости (как то считает платоновский Сократ) и 2) благочестиво то, что угодно богам (как полагает его собеседник афинский прорицатель Эвтифрон). См. Платон. Диалоги. М., 1986. С. 250–268. ↩
- Одним из нормативных текстов этого рода можно считать, к примеру: Попов И. В. Естественный нравственный закон (Психологические основы нравственности). Сергиев Посад, 1897. ↩
- О метаэтике и объеме ее предметности см. нашу первую статью в рамках нынешнего диалога: Шохин В. К. Два типа этических концепций. С. 237–238. ↩
