Мама не кормила детей несколько дней, но в опеке отчаянно рыдала. Как сотрудники принимают решение о ребенке

Отряд на вражеской территории
— Все началось с того, что я была волонтером в фонде, который сопровождал детей из детских домов в больницы. Если ребенка кладут в больницу, то с ним обычно лежит кто-то из родителей, а вот дети-сироты лежат одни, оставаясь на попечении медперсонала. Фонд восполнял этот пробел за счет волонтеров. Во время работы в больницах я часто наблюдала конфликты между волонтерами и сотрудницами опеки. И всегда так выходило, что опека делала что-то неадекватное и непоследовательное с точки зрения волонтеров: не выдавали разрешения на посещение детей, не пускали в ним, или наоборот вдруг неожиданно просили помощи фонда, причем в экстренном порядке. Органы опеки всегда были кошмаром, с которым волонтерам лучше не связываться.
Я задавалась вопросом: почему сами волонтеры не идут туда работать, чтобы менять систему, которая не устраивает? Все мне говорили, что если туда прийти, то эта система тебя просто сожрет. Что нет возможности работать в ней, не предав самого себя. А мне всегда казалось, что это неправда.
Важно отметить, что сами благотворительные фонды не имеют институциональной власти. Они могут формировать общественную повестку, помогать семьям и детям, но в итоге решение, поедет ребенок в детский дом или нет, принимают другие люди — специалисты органов опеки, — про которых мы не знаем ничего. И я тоже ничего о них не знала.
Поступив на факультет антропологии, я решила заняться исследованием тех, о ком ничего не знаю. Когда я читала форумы и статьи по теме, то стало понятно, что в публичном поле существует два нарратива про органы опеки.
Либо они пришли в благополучную семью и забрали ребенка, потому что у семьи не было супа в холодильнике. Либо родители избивали детей годами, случилась трагедия с детской смертью, а органы опеки все это время бездействовали.
А что творится посередине двух этих крайних сюжетов — совершенно неизвестно. Более того, комментариев от самих сотрудников органов опеки почти нет. Это меня очень заинтриговало.
— Как тебя принимали в коллективе?
— Первыми, кто меня принял, были руководительница Елизавета Ивановна и ее заместительница Даша (имена изменены). Первый год я в основном тусовалась в их кабинете, помогала работать с бумагами, отвечать на письма. После года волонтерской помощи мне предложили место в опеке. Меня рады были оставить, потому что я очень люблю задавать вопросы, а потом долго слушать ответы. А работа с разводящимися родителями, которую предложили мне в отделе, требует длинных разговоров. Я согласилась, и в итоге проработала еще два года.

Александра Мартыненко
Если бы я ушла после первого года, это вообще было бы не то исследование, которое есть сейчас. Оно бы подтвердило все стереотипы об органах опеки, о бюрократах. Пока ты не поработаешь полноценной сотрудницей, тебе их мир не будет до конца понятен, хотя я очень старалась в течение первого года его понять. А уж тем более, если ты просто посетитель опеки, ее клиент, шансов понять этих людей ноль.
— Как выглядела их работа в самом начале?
— В кабинет к опеке часто приходят родители из так называемых неблагополучных семей, с которыми опека должна вести профилактические беседы. Во время этих бесед сотрудницы казались мне очень грубыми и несправедливыми. Но когда я начала ездить с ними в квартиры, на вызовы, а главное, увидела, что такие родители приходят каждые полгода с еще большими проблемами, то поняла, что все намного сложнее.
Ты видишь мать, которую полгода уговаривают устроиться на работу, а она приходит — и выясняется, что ее сын съел тюбик клея, пока она была в мефедроновой отключке.
И тогда сотрудницы начинают жесткий разговор: «Мы заберем твоего ребенка, потому что ты ничего не делаешь. Сколько раз мы тебя просили, съезди и встань на учет в наркологический диспансер. Найди работу. Мы тебе предлагали магазин рядом с твоим домом, где требуются кладовщики. Центр помощи семьи и детям к тебе приходит, чтобы дать тебе постельное белье, научить тебя еду готовить. Почему не открываешь дверь?» Когда ты становишься сотрудницей опеки, ты начинаешь это видеть ежедневно, одни и те же повторяющиеся случаи, одни и те же разговоры, одни и те же странные затыки.
Смешно, но постепенно я действительно стала понимать бюрократов. Например, ты сидишь прямо около двери, на которой написано большими буквами «Отдел опеки и попечительства», но каждый день по пять человек отшвыривают ее со стуком об стену и спрашивают, как получить льготные билеты на концерт Лады Дэнс. А ты пытаешься в этот момент решить важные дела. Конечно, ты срываешься.
Понимание этих людей дает вот эта рутина и скука. Мне вообще кажется, что для антропологии скука чрезвычайно важна как инструмент работы. Через эту долбежку одного и того же ты начинаешь понимать, в чем специфика бюрократической работы, которая никогда не закончится. Ведь ее невозможно выполнить полностью. Выжил, не прилетело — нормально, работаем дальше.
— С чего ты начала работу в опеке, что делала?
— Когда я стала полноценным сотрудником, меня посадили в их кабинет за стол около дверей. Я выполняла функцию своеобразного фейс-контроля, то есть должна была «фильтровать» входящих в отдел. Я ее не очень удачно выполняла, потому что не умела останавливать людей, слишком робко к ним обращалась, поэтому меня просто не замечали и шли сразу к другим сотрудницам — Ане и Марине.
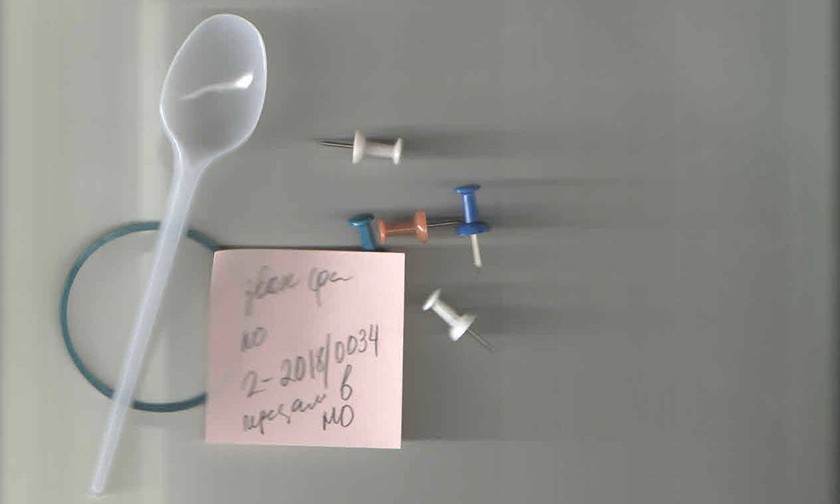
Они со мной не особо общались и скидывали на меня мелкую бумажную работу. Потом настал момент моей бюрократической инициации: я наконец-то развернула человека, который вошел в кабинет и начал спрашивать: «Это отдел вселения?» Я, честно признаюсь, сорвалась и наорала на него, что надо внимательно читать таблички и что не пошел бы он отсюда… Коллеги были приятно удивлены моей самообороной. И я поняла, что я больше не сервисно-услужливый бюрократ. Я бюрократ, который работает с достоинством и знает, что из дел важно, а что нет. В тот момент я как раз разбирала судебные дела и рассудила, что они важнее, чем вежливый диалог с человеком, который даже не прочитал табличку на двери.
Также мне помогли завоевать доверие утренние разговоры, в которые я потихонечку включалась. Важно рассказать коллегам личную историю, пожаловаться на кого-то — тоже хороший ход. Коллеги мгновенно начинают поддерживать, рассказывать свои личные истории. И за этими разговорами вырисовываются ваши отношения.
Разговоры не о работе были отдушиной для сотрудниц, что, кстати, отличает их от волонтерской среды, где обычно много разговоров о педагогике, детях, о том, какие есть проблемы в стране, как их решить. В опеке у тебя так много рабочей реальности, что говорить хочется про что угодно, только не про работу.
Внутри этого небольшого коллектива у каждой свой стиль работы, и над этими стилями иногда смеются, иногда о них спорят.
Например, Аня упрекает Марину, что та слишком чувствительна к своим «алкашам и наркошам». А Марина считает, что Аня слишком жесткая.
Но в итоге эти разные стили позволяют коллективу взаимодействовать с разными людьми. Вся бюрократическая работа с инструкциями и регламентами на самом деле держится на уникальном характере этих людей, которые задействуют свои моральные ресурсы и жизненный опыт, чтобы эта система вообще могла функционировать.
При этом работа в коллективе опеки рождает ощущение своеобразного отряда, который движется по вражеской территории. Всегда есть ощущение, что вас никто не понимает, максимум коллеги из другой опеки. В таких условиях значительную роль начинает играть коллективная мораль. Не человеческая, не профессиональная, а именно коллективная. Если что-то одобрено в коллективе, тогда это морально, а все решения в опеке — коллективные. Все всегда обсуждается.
Часто бывают обсуждения, начинающиеся с двух противоположных точек зрения, но в процессе разговора все быстро приходят к одной. Аня говорит: «Я бы эту маму прямо сейчас родительских прав лишила». Марина говорит: «Нет, слушай, по ней видно, что она еще что-то сможет сделать». Руководительница Елизавета Ивановна резюмирует: «Ну, сколько у нас таких было, давайте дадим ей полгода, если что, выйдем с иском о лишении».
Как работает бюрократия
— Возможно, сама практика на местах формирует эту герметичность, что дело не в нормативах, какими бы ты их ни писал?
— Да, эта удивительная и неуловимая свобода в принятии решений, так называемая дискреция, когда на тысячу правил бюрократы придумывают тысячу способов их обойти. И сам этот опыт адаптации и обхождения правил формирует герметичные коллективы. Есть такой великий миф и двигатель всех исследований бюрократии: вот сейчас мы разберемся, что не так в этой бюрократической системе, поймем, как это работает на самом деле, починим — и все будет работать как часовой механизм. Однако достижение этого идеала фактически невозможно, поскольку природа бюрократии такова, что она — одновременно и порядок, и беспорядок.
— Мне поразило, что органы опеки, когда сами взаимодействуют с другими бюрократами — с врачами, полицией — чувствуют ту же беспомощность. Этот конфликт «бюрократ — человек» вообще преодолим?
— Работа подобных бюрократических коллективов местечковая, каждый коллектив начинает формировать собственную культуру. Это плотно сбитый отряд, и они понимают, что в любом другом бюрократическом учреждении — точно такой же плотно сбитый отряд, про который они ничего не знают, и, сталкиваясь с ним, находятся в позиции обывателя. Там внутри сложились свои нормы, ты не знаешь точно, какая у них загрузка, не знаешь, как себя вести.

Кроме того, они чувствуют, что их собственные интересы как представительниц опеки могут идти вразрез с интересами тех же врачей. Сотрудницам опеки кажется, что сейчас важно довезти ребенка до детской больницы, а сотрудники скорой помощи считают, что ничего страшного не случилось, и им лучше поехать на вызов человека, у которого сердце останавливается, чем вести не самого больного ребенка и тратить на это полдня. Для опеки, если ребенок один, — это самая главная задача. Все остальное: ребенок ходит без шапочки, мама с папой разводятся — это не их приоритет. И все это плохо формализованные процедуры.
Характерный случай: Елизавета Ивановна шла мимо метро и, увидев, как там сидят подростки, явно неблагополучные, позвонила инспектору по делам несовершеннолетних. Инспектор ей говорит: «Звони в отдел, оформляй заявку». Потому что для него это лишняя работа. Вот ничего не случилось пока, так чего я буду ходить куда-то? Елизавета Ивановна удивляется: «Вам сложно что ли?» Она попыталась неформальные каналы использовать, но там тоже ее завернули.
В итоге привыкаешь к тому, что у всех своя приоритизация, и привыкаешь действовать так, как будто никого нет кроме тебя. Можно ли что-то с этим сделать? Я бы поставила вопрос, нужно ли вообще тут что-то делать. Судя по исследованиям бюрократии, это изменить практически невозможно.
— Но разве это не тормозит всю систему?
— Как у всякого социального феномена, здесь есть отрицательные и положительные стороны. На каждом официальном собрании говорят о межведомственном взаимодействии. Все ощущают эту странную разъединенность: бюрократы формируют свои ячейки и не хотят друг с другом работать. Это действительно проблема, так как люди, не общаясь друг с другом, плохо друг о друге думают: полиция думает, что опека плохо работает, опека думает, что полиция плохо работает, центры семьи и детства недолюбливают все, потому что не понимают, чем они занимаются. И это реально тормозит бюрократическую машину, когда требуется включение большого количества служб.
Положительная сторона в том, что это же формирует крепкие рабочие коллективы на местах, которые очень много вопросов могут решить самостоятельно. Герметичность учит тебя самостоятельности. Ты должен сам принимать решения, без посторонней помощи. Мы часто обвиняем бюрократию в бездеятельности, а на самом деле бюрократы на местах очень деятельны и самостоятельны.
Любовь — не гарантия, что у ребенка все будет хорошо
— Когда опека встает на сторону родителя и помогает ему?
— Минимальные требования к родителям — это регулярность, которая показывает их способность к моральному действию. Если ты способен регулярно работать, убирать квартиру, отмечаться в органах, в списки которых попал, когда все было плохо. Если ты готов проявить регулярность как ответ на опасность, что у тебя заберут ребенка, это значит, что ты адекватен. И сотрудницы довольно часто классифицируют родителей, попавших в их поле зрения, как адекватных, когда те начинают показывать «регулярное» поведение: «Я устроилась работать на склад, я уже 4 месяца работаю, получаю каждый день по 2 тысячи», — все, хорошо. И неважно, сколько ты будешь получать.
Социолог Эмиль Дюркгейм писал, что моральное поведение регулярно. Когда совершается великий поступок — это не моральный поступок, потому что он нерегулярный. И сотрудники опеки тоже этого не любят. Например, мама пила, у нее забрали ребенка, и она умоляет опеку вернуть его, заверяет, что любит его и все для него сделает. Для них эти мольбы не важны. А вот если она регулярно начнет навещать его в реабилитационном центре, они будут готовы встать на ее сторону.
Важна социальная компетенция, а не родительская любовь, потому что любовь не гарантирует, что у ребенка все будет хорошо.
Меня всегда поражало, что родители, которые могли не кормить своих детей по несколько дней или избивать их, в случае, когда ребенка все же забирали, рыдали так, что душу выворачивает. Но сотрудниц опеки это не впечатляло вообще. Для них такая любовь действительно животная, которая вообще ни к чему может не привести. И чем ярче демонстрируется любовь к ребенку, тем больше подозрений.
А когда ты спокойно и последовательно понимаешь, как в данной ситуации тебе, как родителю, нужно действовать, слушаешь, это помогает оценить твою социальную компетентность. Эта регулярность позволяет получить более сфокусированную картинку, потому что на самом деле полной информации о том, что происходит в семье, не будет никогда. И поэтому остается полагаться на такие критерии — конечно, в широком смысле ненадежные, но сформированные опытом.
— Есть ли гендерная специфика? Требуют ли разного от мам и пап?
— Я работала в большом городе, поэтому у нас было довольно много неожиданных решений с точки зрения общей судебной практики — например, было нормально оставить ребенка жить с папой. Но, что интересно, к мужчинам всегда относятся с меньшим сочувствием. У нас в опеке все жалели мам. И мама, даже в очень тяжелой ситуации, которая бесконечно срывает работу отдела тем, что пропадает или попадает в какие-то неприятные истории, все равно получит совет. А вот с мужчинами особенно не церемонятся. Если в первый раз не понял, то и ладно. Это специфика сильного женского коллектива, где мужчины, скорее воспринимаются как слабые субъекты. К женщинам больше требований, но и сочувствия больше. А к мужчинам — меньше требований, меньше внимания, хотя, понятное дело, ситуация может быть разной в зависимости от региона и конкретного коллектива.

— Что бы ты сказала людям, у которых есть реальный страх столкнуться с опекой?
— Во-первых, у нас действительно очень сильно изменилась социальная политика. Сейчас она направлена на сохранение семьи. Забрать ребенка из семьи — очень сложная задача для государственных органов, каждый такой случай детально рассматривается и анализируется. Почему не поработали с семьей? Почему довели до того, что ребенка надо забирать? Так называемое изъятие — это настолько крайняя мера, что основания для нее должны быть неоспоримы: как правило, это прямая угроза жизни ребенку, чаще всего физическая.
Обычно я читаю в глазах моих знакомых удивление, когда говорю следующее: на самом деле, когда органы опеки приходят домой, они хотят увидеть что-то хорошее, они хотят видеть надежду, что ребенка не нужно будет забирать. Никто не хочет забирать детей. Это очень сложная юридическая процедура.
Я за годы работы поняла, что нужно осторожнее относиться к новостям о том, что органы опеки пришли в дом, не нашли супа в холодильнике и забрали ребенка.
При этом репутация органов опеки все еще такая, что это тетки, которые забирают из семьи всех детей. Это создает общую невротическую обстановку.
Или, когда люди разводятся, часто боятся, что органы опеки запретят общаться с ребенком. Ни один суд, ни одна опека не скажут, что, действительно, папа какой-то странный, пусть не общается с ребенком. Обычно и органы опеки, и суд настаивают на одном — для сохранения отношений с двумя родителями ребенку необходимо регулярно поддерживать связь с тем из них, кто проживает отдельно.
— Как лучше общаться с опекой, если все же это необходимо?
— Каждый, кто заходит в отдел опеки, считает, что его дело — самое важное. И это, конечно, нормально — что может быть важнее, чем личные трагедии с детьми? Но сотрудницы опеки не могут 20 раз за день вжиться в каждую историю. На это нет никаких эмоциональных ресурсов. Даже когда ты волонтер в эмоционально тяжелой сфере, ты можешь это регулировать, решать: брать, не брать тот или иной случай. Опека же не знает, сколько сегодня нужно будет выслушать человек: одного или двадцать пять. И у каждого будет своя история.
Поэтому чрезмерная эмоциональность людей начинает сотрудниц раздражать. Разумеется, тут можно привести много аргументов, которые мы и слышим каждый день: что не надо было выбирать тогда такую работу, что им платят за это деньги и прочее. Пускай, но давайте исходить из того, что мы все это уже слышали, а сотрудницы работают в тех условиях, в которых работают. А условия таковы, что выдерживать большой эмоциональный накал им тяжело.

Я недавно своей подруге, которой предстоит поход в опеку, советовала: первое, что ты должна знать, — там тоже люди, и они тебе хотят помочь; второе — не надо лишних эмоций, чем спокойнее ты говоришь, тем лучше.
Когда приходят люди и спокойно описывают: «Вы знаете, у меня такая ситуация, с папой не можем договориться, есть некоторые моменты. Если хотите, я расскажу подробнее, но в целом ситуация структурно выглядит примерно так…», — к ним относятся намного лучше, чем к тем, кто с порога начинает кричать: «Вы знаете, папа у ребенка такой ***! Когда я еще беременной была, он мне, знаете, что сказал?..»
У опеки нет личных психологов, нет супервизий. Если вы будете говорить спокойно, никто не подумает, что вы какой-то деловой и бездушный человек, который пришел решить свои дела. Наоборот, сотрудницы опеки скорее сочтут это за добродетель. Они и так понимают вашу боль, потому что видят ее каждый день.
— У сотрудников опеки есть какие-то представления о хорошем детстве?
— Хорошее детство для опеки — это когда ребенок рядом с надежными взрослыми. Это чистая квартира в любом ценовом сегменте. Неважно, бедно в доме или богато. И еще, хорошее детство с точки зрения государства — это детство с постоянной занятостью школой, кружками. Опека с подозрением относится к свободному времяпрепровождению детей. Понятно, что занятость детей сокращает работу самим органам опеки, поскольку если дети будут шататься где-то, то это гарантированно лишняя работа. А когда они чем-то заняты, значит, и родительство хорошее, и детство.
То есть хорошее детство для органов опеки — это детство, которое не доставляет проблем самим органам опеки.
При этом, если мы их спросим не как сотрудниц, а как родителей собственных детей, они скажут, что это, конечно, бред — постоянно детей таскать по кружкам или следить за каждым их шагом. Такое вот раздвоение личности, что вполне естественно
— Ты пишешь в книге, что сотрудницы часто обсуждают переустройство органов опеки. Как они видят это переустройство?
— Сотрудницы опеки считают, что они должны заниматься только одним делом — детьми-сиротами. Разводы родителей, работа с неблагополучными семьями — это, по их мнению, не задача органов опеки. Опека появляется тогда, когда нужно опекать ребенка, у которого нет законных представителей. На деле получается, что ты работаешь с неблагополучными семьями и с теми несовершеннолетними, кто нарушил закон, хотя это, казалось бы, работа полиции. Это связано с тем, что у органов опеки есть полномочия забирать детей из семьи. Хотя у полиции они тоже есть и часто используются.
Но при этом органы опеки не могут никак реально помочь семьям, они могут только наказывать, угрожать, приходить и отбирать детей. А вот для помощи семьям есть социальные центры. Тамошние работники начинают ходить к семьям и говорить: «Давайте мы вам поможем купить кровать, отведем к юристам для консультации, поставим вас на учет, чтобы вы устроились на работу, отвезем в наркологический диспансер». Но для оказания такой помощи центры должны подписать с родителями контракт, что, безусловно, можно сделать только на добровольной основе.
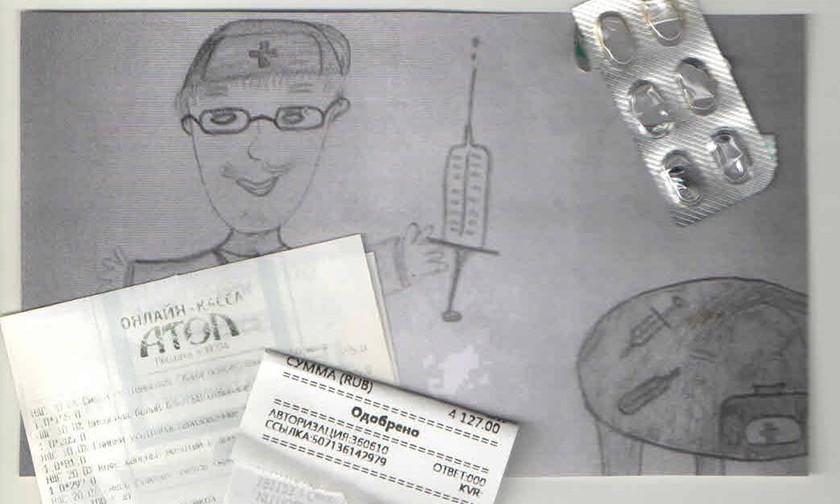
Часто же получается, что семья, у которой и без того тяжелая ситуация, после постановки на учет просто не хочет ни с кем взаимодействовать, и даже помощь вызывает у них ощущение контроля, властного произвола и желание просто закрыться у себя в квартире. Так что люди просто не открывают дверь социальным работникам. Обычно в таких ситуациях коллеги из социального центра звонят в отдел опеки.
И вот приходит опека, стучит в дверь и говорит: «Откройте дверь, иначе мы сейчас заберем у вас детей». И все двери мгновенно открываются. Как кажется, в опеке считают, что у социальных работников должны быть полномочия забирать детей, если они находят их в ужасном состоянии. А сами сотрудницы очень устали от этой полицейской функции, они просто хотят быть с теми детьми, которым нужно найти семью и помочь в переходный период между кровной и приемной семьей.
— То есть их функционал раздут?
— Да, до работы в опеке я не знала, в каком большом количестве дел участвуют сотрудницы. Например, в моей части работы с разводами мне часто доводилось иметь дело с городским центром медиации, который занимается досудебным разрешением родительских конфликтов. Родителей приглашают встретиться в этом центре, чтобы сотрудники-медиаторы помогли им решить конфликт насчет ребенка в нейтральной обстановке, прежде чем закидывать друг друга исками. Центр медиации был сделан для того, чтобы снизить нагрузку на суды и на органы опеки. Но туда никто никогда не идет, потому что вэто добровольно. И социальная помощь тоже добровольная. У нас нет ничего принудительного.
Однако недоверие к государственной помощи так велико, что люди не могут воспользоваться даже теми реально полезными услугами, которые предполагают минимальное вмешательство в жизнь семьи.
— Получается патовая ситуация, что все боятся органов опеки, но мало кто принимает какие-то шаги до того, как органы опеки начнут стучаться в твою дверь.
— Да. И постепенно это, конечно, очень ожесточает, потому что ты занимаешься «полицейской» работой. Это понимают и сами сотрудницы. Они говорят: «Да, это мы — самые плохие. Кто-то должен быть плохим». Потому что именно они принимают решения о судьбе ребенка, в отличие от социальных работников или волонтеров, и не могут позволить себе быть мягкими.
Трагический фатализм
— Какими еще вопросами ты занималась в опеке?
— Определением места жительства ребенка и порядка встреч с родителями после развода. Мои клиенты в большинстве случаев жили в хороших новых домах. Оказалось, что состоятельные люди чаще судятся при разводе, так как у них есть ресурсы побороться за ребенка, нанять адвоката, разъехаться по разным квартирам.
Я сама живу в новом доме, и однажды ходила в собственный подъезд как сотрудница органов опеки. Ситуация такая: у женщины был спор с бывшим мужем о порядке встреч с дочкой. Папа хотел видеться чаще, а мама была обижена на него и приводила, на мой взгляд, довольно натянутые аргументы, чтобы ограничить его общение с девочкой-подростком: «Неудобно ездить к папе, у ребенка аллергия, а я не уверена, что там хорошо убираются в квартире». Объективных причин ограничивать встречи с отцом я не увидела и написала соответствующее заключение. Через какое-то время я спокойно захожу в лифт, в своем подъезде, и там стоит эта мама.
— Что ты почувствовала?
— Это было так ужасно и неловко! Я чувствовала дикое напряжение. Мне хотелось оправдаться, сказать, что, с моей точки зрения, я приняла верное решение. И что она на самом деле сама это понимает. И что ребенок не должен быть предметом торга между родителями. Но мы проехали молча.

— А жалобы писали?
— Да! Была ситуация, когда мама уехала в другой город с ребенком без предупреждения, и папа подал на нее в суд. Я написала заключение, что ребенку стоит жить с папой, поскольку он с рождения живет в этой квартире, там у него детский сад, друзья, бабушка и дедушка рядом, своя комната. Мама написала на меня жалобу, что я — ужасная сотрудница опеки, которая вообще ничего не понимает, и как я могла принять такое решение, как можно забирать ребенка от матери. Но перед этим от мамы ничего не было слышно, на связь с опекой она не выходила, мы фактически ничего не знали о том, где она сейчас находится с ребенком. Уже на суде она предоставила все документы, объяснила, почему уехала в другой город, кто там с ребенком сидит. Мы изменили заключение, и суд принял ее сторону.
— А почему ты изначально приняла решение в пользу отца?
— Мне не понравились своевольные жесты мамы, забравшей ребенка без предупреждения. Такое случается довольно часто, и папы тоже так делают. Ребенок здесь становится каким-то объектом, который можно легко перемещать. Конечно, есть категория дел, связанная с домашним насилием, когда действительно люди бегут друг от друга. Но в моей практике чаще всего это были благополучные семьи с тяжелым разводом, где родители буквально крадут друг у друга детей. Мама приходит забирать ребенка в детский сад, а его нет — папа забрал без предупреждения.
Представляешь, что с ребенком происходит? Ребенок выходит из детского сада и не знает, кто его сегодня украдет — мама или папа.
— А как вы такие ситуации разруливали? Полиция?
— Да, полиция. На самом деле, легально эту ситуацию можно разрешить только через суд. По закону, пока кто-то из родителей не ограничен в правах, это не кража.
— Когда ты в суды начала ходить, какие у тебя были впечатления?
— Я не ожидала, что это будет похоже на передачи про суды, которые видела по телевизору. Но категория дел, связанная с детьми, — очень эмоциональная. И люди, несмотря на то, что находились в институционально ограничивающей обстановке суда, не стеснялись проявлять эмоции. Когда ты сидишь около кабинета суда в очереди и слышишь чужие судебные заседания, вроде разрешения вопросов с недвижимостью, это всегда бубнеж и конвейер. Но как только в деле появляется ребенок, все приобретает торжественный характер. В районных судах в основном работают женщины, гендерная история тоже играет свою роль. Они переключают режимы судьи и матери, смягчаются, когда нужно опрашивать ребенка, и искренне пытаются разобраться в деле.
— Ты чувствовала беспомощность в своей работе? В каких ситуациях?
— Когда понимаешь, что твое решение ни на что не повлияет, потому что у одного родителя, например, больше денег и хорошие адвокаты. У меня был случай, мама — китаянка, папа — русский. И мама в какой-то момент забрала детей и увезла их в Китай. Папа подал в суд. И ты пишешь заключения, чтобы он мог увидеть детей. Он рыдает, тебе самой плохо от этой ситуации, ты не знаешь, чем помочь. И ты думаешь, господи, и что я здесь могу сделать, когда дети в другой стране? Но в моей работе было меньше беспомощности, потому что все-таки заключение из опеки довольно сильно влияло на ход судебного процесса.

Гораздо больше чувствовала беспомощность та же Марина, которая занималась неблагополучными семьями. Там отложенный результат работы, но, как правило, его вообще нет, потому что, когда люди попадают в поле зрения опеки, там в семье уже очень тяжелая ситуация. И делать такую работу — это действительно не ждать плодов от своих усилий, действовать без цели. Это и работа Ани с недееспособными людьми, которые периодически переживают обострения и делают жизнь своей семьи очень тяжелой.
— Есть и трагичные случаи в твоем исследовании, кажется, что в предельных ситуациях никакое государство, даже если будет много денег и ресурсов, не могло бы их предотвратить?
— До работы в опеке мне казалось, что дело в в нехватке ресурсов — временных и финансовых. Если с людьми по-человечески поговорить, все будет хорошо. Сейчас я в это никогда не поверю. Ты приобретаешь трагический фатализм, принимаешь, что, например, из неблагополучного родительства выбираются единицы.
Работа в органах опеки — работа без надежды. Ты продолжаешь работать, зная, что дети умирают и будут умирать, и ты ничего не можешь с этими сделать окончательно. Это не значит, что не надо стараться.
Но ты видишь детей, которые погребены под кучей мусора в запертых квартирах; родителей, которые калечат своих детей.
И я вижу большое мужество в моих героинях, которые говорят: «Это есть». Они, как никто другой, видят и проживают это по-настоящему.
В обществе, где любая трагедия с ребенком воспринимается очень болезненно, у тебя нет права на ошибку и нет права вслух публично сказать, что дети все равно будут умирать. Никто не примет это. Это не то, что можно сказать публично. Ты просто с этим живешь.
— Ты не разочаровалась в людях?
— Нет, конечно! Ты часто видишь людей, которых надломили их жизненные ситуации, и эти трагедии тащат их вниз, и ты наблюдаешь это скатывание, где ничем не можешь помочь. В буддизме есть такое понятие — «омрачение». Это как морок вокруг нашей головы, который нам не позволяет увидеть ни себя, ни других. И на самом деле я всегда чувствовала к родителям — даже тем, которые меня раздражали или вызывали отвращение своими поступками, — что эти люди находятся в тяжелом омрачении. Они просто не могут увидеть это по разным причинам. Не потому что не хотят, а потому что из омрачения очень тяжело выйти и посмотреть по-другому на свою ситуацию, как и я сама не могу разглядеть своих омрачений. И мне было их жаль.
Именно поэтому я просиживала много часов, слушая их истории. На самом деле, когда ты приходишь осматривать квартиры, через 15 минут посещения уже понимаешь, какой порядок общения с родителем определить, с кем оставить ребенка после развода — и в целом можно уходить. Но я сидела и слушала одни и те же повторяющиеся истории. Я понимаю, что им надо это куда-то деть.
— Во вступлении ты делаешь отдельный фрагмент под названием «Жить вместе». Почему он для тебя важен?
— Во-первых, мне бы хотелось, чтобы люди увидели работу опеки не только как государственного органа и заметили, что там много тяжелого труда и сочувствия. Органам опеки не хватает даже не зарплат и ресурсов, а общественного уважения. Они же и так работают за идею. Ты денег в опеке никогда не заработаешь, власти у тебя тоже на самом деле никакой нет, ты не можешь себе что-то пробить, урвать. И я считаю, что работа в системе защиты детства должна быть такой же символически важной, как труд учителя, к примеру.
Во-вторых, антропология — это в целом дисциплина, которая учит нас жить вместе. В этом смысле антропология даже не наука, а практика, которая изменяет и самого исследователя, помогая увидеть других, выйти ненадолго из омрачения, взглянуть на сложный мир со всеми его противоречиями и принять его, пусть на короткий миг. Антропология нас примиряет для того, чтобы мы могли что-то исправить в том, как мы живем, думаем и действуем.
Фото: freepik.com и из личного архива Александры Мартыненко