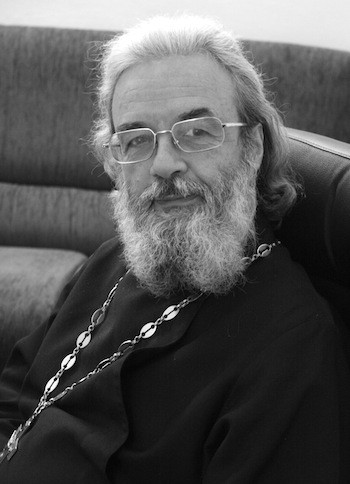Проблеме преступления и справедливого наказания за преступление уделяется много внимания. Это связано и с остротой проблемы, и с тем, что часто в нашей жизни преступление подчас остается безнаказанным. Наш великий поэт, А.С. Пушкин, в оде «Вольность» писал:
Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье;
Где всем простерт их твердый щит,
Где сжатый верными руками
Граждан над равными главами
Их меч без выбора скользит
И преступленье свысока
Сражает праведным размахом;
Где не подкупна их рука
Ни алчной скупостью, ни страхом.
Пушкин мечтал о правосудии, перед которым все равны и при котором преступление карается независимо от материального, социального положения преступника, а судьи неподкупны и бесстрашны. Да, конечно, это идеал, и идеал, к которому надо стремиться. Но это идеал не полный. Рассуждая о правосудии, мы вместе с Пушкиным думаем о справедливом возмездии тому, кто нарушил закон, думаем про суд, справедливый и неподкупный. К сожалению, мы не задумываемся о том, что в руки правосудия может попасть и тот, кто не нарушал закон, не совершал преступления, кто невиновен и перед Богом, и перед людьми.
Что в таком случае предлагается? Ровным счетом ничего. Мы осуждаем, и справедливо, жестокие репрессии советской эпохи, когда страдало множество совсем ни в чем не виновных людей. И хотя мы и осуждаем репрессии, у нас у самих на каком-то подсознательном уровне, подспудно, присутствует мысль, что если некто попался, если осуждают, значит, виноват. Но ведь это и есть тот принцип, которым руководствовались карательные органы в те далекие годы.
В качестве яркого примера того, как это было, приведем отрывок из воспоминаний талантливого советского полководца генерала Горбатова, репрессированного в 30-е годы прошлого столетия, но благодаря своей стойкости не подписавшего никаких обвинений. Он был освобожден незадолго до начала Великой Отечественной войны и принял в ней самое активное участие. Он всегда был верен себе и не боялся отстаивать свое мнение, не соглашаться и спорить с такими властными людьми, как, например, маршал Жуков, был прям и непреклонен и перед самим Сталиным. Однажды во время войны, после очередного принципиального поступка, Сталин, который любил игру слов, сказал: «Горбатова могила исправит», — и запретил его трогать.
Так вот, генерал А.В. Горбатов, прошедший ад допросов с применением пыток, вспоминал:
«…я слышал, как открылись и захлопнулись ворота Лефортовской тюрьмы. И вот я оказался в маленькой, когда-то, наверное, одиночной камере. Там уже были двое. Три койки стояли буквой «П». Моими соседями оказались комбриг Б. и начальник одного из главных комитетов Наркомата торговли К. Оба они уже написали и на себя, и на других чепуху, подсунутую следователями. Предрекали и мне ту же участь, уверяя, что другого выхода нет. От их рассказов у меня по коже пробегали мурашки. Не верилось, что у нас может быть что-либо подобное.
Мнение моих новых коллег было таково: лучше писать сразу, потому что все равно – не подпишешь сегодня, подпишешь через неделю или через полгода.
– Лучше умру, – сказал я, – чем оклевещу себя, а тем более других.
– У нас тоже было такое настроение, когда попали сюда, – отвечали они мне.
Прошло три дня. Начались вызовы к следователю. Сперва они ничем не отличались от допросов, которые были на Лубянке. Только следователь был здесь грубее, площадная брань и слова «изменник», «предатель» были больше в ходу.
– Напишешь. У нас не было и не будет таких, которые не пишут!
На четвертый день меня вызвал кто-то из начальников. Сначала он спокойно спросил, представляю ли я, к чему себя готовлю, хорошо ли это продумал и оценил? Потом, когда я ответил, что подумал обо всем, он сказал следователю: «Да, я с вами согласен!» – и вышел из комнаты.
На этот раз я долго не возвращался с допроса.
Когда я с трудом добрался до своей камеры, мои товарищи в один голос сказали:
– Вот! А это только начало.
А товарищ Б. тихо мне сказал, покачав головой:
– Нужно ли все это?
Допросов с пристрастием было пять с промежутком двое-трое суток; иногда я возвращался в камеру на носилках. Затем дней двадцать мне давали отдышаться.
Больше всего я волновался, думая о жене. Но вдруг я получил передачу пятьдесят рублей, и это дало мне основание верить, что она на свободе.
Мои товарищи, как ни были они мрачно настроены, передышку в допросах считали хорошим предзнаменованием. Но вскоре меня стали опять вызывать на допросы, и их было тоже пять. Во время одного из них я случайно узнал, что фамилия моего изверга-следователя Столбунский. Не знаю, где он сейчас. Если жив, то я хотел бы, чтобы он мог прочитать эти строки и почувствовать мое презрение к нему. Думаю, впрочем, что он это и тогда хорошо знал…
До сих пор в моих ушах звучит зловеще шипящий голос Столбунского, твердившего, когда меня, обессилевшего и окровавленного, уносили: «Подпишешь, подпишешь!»
Выдержал я эту муку во втором круге допросов. Дней двадцать меня опять не вызывали. Я был доволен своим поведением. Мои товарищи завидовали моей решимости, ругали и осуждали себя, и мне приходилось теперь их нравственно поддерживать. Но когда началась третья серия допросов, как хотелось мне поскорее умереть!
После трехмесячного перерыва в допросах, 8 мая 1939 года, в дверь нашей камеры вошел человек со списком в руках и приказал мне готовиться к выходу с вещами!
Радости моей не было конца. Товарищ Б., уверенный, что меня выпускают на свободу, все спрашивал, не забыл ли я адрес его жены, просил передать ей, что он негодяй, не смог вытерпеть, подписал ложные обвинения, и просил, чтобы она его простила и знала, что он ее любит. Я ему обещал побывать у его жены и передать ей все, о чем он просит.
Безгранично радостный, шел я по коридорам тюрьмы. Затем мы остановились перед боксом. Здесь мне приказали оставить вещи, и повели дальше. Остановились у какой-то двери. Один из сопровождающих ушел с докладом. Через минуту меня ввели в небольшой зал: я оказался перед судом военной коллегии.
За столом сидели трое. У председателя, что сидел в середине, я заметил на рукаве черного мундира широкую золотую нашивку. «Капитан 1 ранга», – подумал я. Радостное настроение меня не покидало, ибо я только того и хотел, чтобы в моем деле разобрался суд.
Суд длился четыре-пять минут. Были сверены моя фамилия, имя, отчество, год и место рождения. Потом председатель спросил:
– Почему вы не сознались на следствии в своих преступлениях?
– Я не совершал преступлений, потому мне не в чем было и сознаваться, – ответил я.
– Почему же на тебя показывают десять человек, уже сознавшихся и осужденных? – спросил председатель.
У меня было в тот момент настолько хорошее настроение, и я был так уверен, что меня освободят, что осмелился на вольность, в чем впоследствии горько раскаивался. Я сказал:
– Читал я книгу «Труженики моря» Виктора Гюго. Там сказано: как-то раз в шестнадцатом веке на Британских островах схватили одиннадцать человек, заподозренных в связях с дьяволом. Десять из них признали свою вину, правда, не без помощи пыток, а одиннадцатый не сознался. Тогда король Яков II приказал беднягу сварить живьем в котле: навар, мол, докажет, что и этот имел связь с дьяволом. По-видимому, – продолжал я, – десять товарищей, которые сознались и показали на меня, испытали то же, что и те десять англичан, но не захотели испытать то, что суждено было одиннадцатому.
Судьи, усмехнувшись, переглянулись между собой. Председатель спросил своих коллег: «Как, все ясно?» Те кивнули головой. Меня вывели в коридор. Прошло минуты две.
Меня снова ввели в зал и объявили приговор: пятнадцать лет заключения в тюрьме и лагере плюс пять лет поражения в правах…
Это было так неожиданно, что я, где стоял, там и опустился на пол».
(Генерал Горбатов. Годы и войны. М. 1980 г. с. 123-128).
Из этого отрывка очень хорошо видно, насколько безвыходным, можно сказать, безнадежным было положение тех, кто попадал в репрессивную мясорубку, и насколько мало тогдашние суды имели право называться справедливыми. Ведь всякое обвинение обязательно должно подразумевать возможность защиты и оправдания обвиняемого. Но из обвиняемых всеми средствами выбивались нужные признания, и показаний тех, кто не выдержал допросов с пристрастием, оказывалось достаточным, чтобы осудить честного и стойкого человека.
Причем, надо твердо иметь в виду, что при таких способах ведения следствия ни показания других обвиняемых или свидетелей, ни, тем более, собственное признание сами по себе ничего не доказывают, как это убедительно подтверждают воспоминания генерала Горбатова. Но в глазах трибунала важна была не истина, а возможность найти формальный повод для вынесения уже заранее приготовленного приговора. Да, все это печальные и известные факты. Но так ли уж безвозвратно отошли они в прошлое? Мы живем в постсоветскую эпоху, а сильно ли изменились наши представления о правосудии?
Глава о пребывании генерала Горбатова в тюрьме и лагере называется «Так было». Так было, потому что система считала, что, если попал под суд, значит, виноват. В наше время репрессий нет, но и сейчас, так же как и тогда, многие считают, что, если кого-либо обвиняют, – он виновен. Как говорится, «Нет дыма без огня». А если человека оклеветали? А если он стал жертвой несчастного стечения обстоятельств? Мало кто задумывается о таких вещах.
Мы очень легко осуждаем и выносим приговоры еще даже до приговора суда, совершенно не заботясь о том, что при этом может пострадать чье-то доброе имя. Этот человек показался кому-то нечестным? Так проще сомневаться в его честности, чем в основательности своих сомнений! Позволю высказать предположение, что если подобные представления будут господствовать, то нам не избежать ситуации, когда упомянутое «Так было», станет «Так и будет» в будущем. Ведь неправедные суды возникают не сами по себе, они лишь следствие ложных установок, а неправедные судьи выходят из среды обычных граждан с их искаженными понятиями о добре и зле, законе и беззаконии.
Нашему народу пришлось пережить в ХХ веке много тяжелых испытаний: войны, революции, сталинские репрессии. Все это не могло не оставить в душах людей страшного следа. Жестокость порождает жестокость, несправедливость – желание покарать обидчика. И вот уже кажется, что победить можно только силой (по другому-то ведь никто не учил!), и что добро «должно быть с кулаками», и что милосердие не нужно, а важна лишь справедливая и суровая кара.
Но милосердие выше правосудия, даже самого справедливого. Святым отцам принадлежит парадоксальное утверждение: «Не говори, что Господь справедлив. Господь – не справедлив, но милостив». Если бы Господь судил по справедливости, то нас по нашим грехам ожидала бы самая суровая кара.
Конечно, нельзя не признать, что вокруг нас много несправедливости и беззакония. И, безусловно, этому нужно противостоять. Вот кто-то и берет на себя функции борца за справедливость. Мы часто слышим, что того или иного человека осуждают и разоблачают, раздаются призывы разобраться и навести порядок. О порядке и справедливости мечтали, наверно, во все времена и все народы. Еще около тысячи лет назад летописец писал: «Земля наша богата и обильна, а порядка в ней нет». Но ведь совсем не безразлично, какими именно методами наводить этот порядок. И если мы полагаем, что покарать виновных – важно, а то, что при этом может пострадать и невинный, – не важно, то чем мы тогда отличаемся от тех, кого собираемся карать? Круг замыкается.
А ведь были времена, когда к этой важнейшей проблеме относились совершенно иначе. Возможно, кто-то сочтет обращение к прошлому как свидетельство того, что, мол, автор считает, что в прошлом все было лучше. Конечно, что-то было лучше, что-то было хуже, но дело не в этом. Позволю высказать мысль, что настоящий прогресс возможен, только если мы опираемся на высшие достижения прошлого, если мы ориентируемся на достигнутые вершины и избегаем прошлых ошибок. В противном случае, мы неизбежно снизим уровень требований к себе и к своей жизни и будем обречены, так сказать, влачиться по земле, теряя ориентиры и представления о реальных масштабах тех или иных событий, повторяя и усугубляя прежние ошибки и прегрешения.
Суть самой проблемы можно сформулировать так: если обвиняемый невиновен, то должен быть механизм, который позволит ему оправдаться и в глазах суда, и в глазах окружающих. Если подобного механизма нет, то мы становимся на одну ступень с заплечных дел мастерами. Любое сомнение необходимо истолковывать в пользу обвиняемого, потому что лучше оправдать виновного, чем осудить невинного. Подобное утверждение может вызвать несогласие и протест, но в том-то и дело, что были достойнейшие люди, оставившие по себе добрую память, на авторитет которых мы опираемся.
В первой половине XIX века в Москве жил доктор Гааз, которого за его доброту еще при жизни звали святым. Он был тюремным врачом и всеми силами старался смягчить тяжелую участь заключенных. О нем рассказывают следующее:
«В журналах московского тюремного комитета с 1829-го по август 1853 года записано сто сорок два предложения Гааза с ходатайствами о пересмотре дела, о помиловании осужденных или о смягчении им наказания. Покойный Д. А. Ровинский вспоминал эпизод, показывающий, с какою горячею настойчивостью отстаивал Федор Петрович свое заступничество. В 40-х годах, будучи губернским стряпчим, Ровинский, постоянно посещая заседания тюремного комитета, был очевидцем оригинального столкновения Гааза с председателем комитета знаменитым митрополитом Филаретом из-за арестантов. Филарету наскучили постоянные и, быть может, не всегда строго проверенные, но вполне понятные ходатайства Гааза о предстательстве комитета за невинно осужденных арестантов.
«Вы все говорите, Федор Петрович, – сказал Филарет, – о невинно осужденных… Таких нет. Если человек подвергнут каре – значит, есть за ним вина…» Вспыльчивый и сангвинический Гааз вскочил с своего места. «Да вы о Христе позабыли, владыко!» – вскричал он, указывая тем и на черствость подобного заявления в устах архипастыря, и на евангельское событие – осуждение Невинного. Все смутились и замерли на месте: таких вещей Филарету, стоявшему в исключительно влиятельном положении, никогда и никто еще не дерзал говорить. Но глубина ума Филарета была равносильна сердечной глубине Гааза. Он поник головой и замолчал, а затем после нескольких минут томительной тишины встал и, сказав: «Нет, Федор Петрович! когда я произнес мои поспешные слова, не я о Христе позабыл – Христос меня позабыл!..» – благословил всех и вышел».
(А.Ф. Кони. Федор Петрович Гааз. М. 2006 г.)
От несправедливого обвинения страдает не только сам обвиняемый, но и его родственники и близкие. Быть может, у его детей на всю жизнь останется сознание того, что их отец – преступник. Кто ответит за их страдания? Страшно обвинить невинного! Страшно еще и потому, что, если может быть осужден невинный, то это означает, что никто – ни один человек! – не может считать себя в безопасности. Любой может быть осужден! А если спустя какое-то время выяснится, что это ошибка, то что же, обвинитель скажет: «Я Вас немножко оклеветал, простите, это я нечаянно, больше не буду»? И все? В истории есть примеры, когда клевета преследовалась гораздо более жестко. Об этом гласит шестое правило Второго Вселенского собора: обвинители не прежде могут «настоять на своем обвинении, как письменно поставив себя под страхом одинакового наказания с обвиняемым, если бы, по производству дела, оказались клевещущими на обвиняемого епископа». Обвинитель знал, что в том случае, если окажется, что его донос ложный, кара всей тяжестью обрушится на него самого. Ну, а поскольку автора анонимного доноса наказать нельзя, то император Петр Великий велел анонимные доносы сжигать на торговой площади рукой палача.
Но дело даже не в том, как поступать с клеветниками. Речь опять-таки о приоритетах. Что прежде всего должен делать суд: карать или защищать? Так вот, в первую очередь надо думать не о том, чтобы наказать виновного, а о том, как бы не засудить невинного.
Приведу еще один поразительный пример. Выдающийся юрист, правовед, судебный оратор, писатель Анатолий Федорович Кони и его друг Сергей Федорович Морошкин, будучи молодыми прокурорами в Харькове, снимали в целях экономии одну квартиру на двоих, у них и слуга был один. Морошкин собирался в дальнее путешествие, дорога была небезопасна, он попросил у А.Ф. Кони пистолет. Оказалось, что его кобура мала, и когда Сергей Федорович пытался всунуть в нее пистолет, то незаметно для себя взвел курок. Он протянул пистолет Кони, но неловко, пистолет упал,
«… раздался выстрел, что-то меня как будто тронуло за левый бок – и удушливый дым наполнил комнату. Сквозь него я увидел искаженное ужасом лицо Морошкина. Бледный, как полотно, он бросился ко мне. «Ты жив?! Жив?!» – едва мог он пролепетать. Когда дым рассеялся, мы увидели, что у моего домашнего сюртука с левой стороны как будто вырезана полоска сукна, а большая коническая пуля глубоко ушла в стену сзади меня. Морошкин долго не мог успокоиться и понять, как произошел выстрел, с некоторым недоверием относясь к моему рассказу о виденном самолично и думая, что это я говорю, чтобы оправдать ту неосторожность, в которой он себя обвинял.
«Послушай, – сказал я ему, невольно задумавшись над происшедшим, – а нет ли в этом случае, так счастливо окончившемся для нас обеих, особого смысла? Нам предстоит прокурорская деятельность, придется возбуждать уголовные преследования, поддерживать обвинения на суде. Как важно здесь избежать ошибок, увлечений, односторонности! Как легко поддаться общему впечатлению, не разбирая частностей, или, наоборот, сделать из частностей поспешный вывод, как соблазнительно, сказав себе: вот преступление и вот виновник, начать притягивать к этому, не замечая логических скачков, отдельные данные дела… Представь себе, что пуля прошла бы немного левее. Она, по тому положению, в котором я стоял, могла попасть в сердце и убить меня на месте. Ты сам послал бы или даже побежал, ввиду отсутствия Емельяна, за полицией. Явилась бы она и судебный следователь.
«Вы говорите, что это несчастный случай, но объясните, как же он произошел?» – «Не знаю, не понимаю…» – «Вы взвели курок? Тронули собачку?» «Нет». – «И пистолет сам выстрелил?» – «Да! Сам». – «Это ваш револьвер?» – «Нет, убитого…» – «Почему же он был у вас, а не у него?» – «Я уезжал и хотел его взять в дорогу». – «А у вас был свой револьвер?» – «Да был, вот этот, маленький…» – «А вы получили отпуск? Заявили прокурору об отъезде? Вы ведь уезжали на несколько дней…» – «Нет, не заявлял». – «Но кто-нибудь знал о вашем предполагаемом отъезде, например ваша супруга?» «Нет, она не знала, я хотел ей доставить нечаянную радость встречи»… Обращаются к Емельяну. «Что ж, – скажет он, вероятно, – господа были хорошие, только промеж себя, бывало бранятся, когда по-русски, а когда, если видят, что слушаешь, так не по-нашему. И в этот день с утра страсть как бранились – все книжку какую-то смотрели, повернут страничку и давай спорить; потом убитый барин хотел со мной книги расставлять, а другой говорит: «Иди, иди за покупками», взял меня за руку и вывел за дверь передней, да и дверь запер»… Спрашивают экспертов-оружейников, и те, конечно, говорят, что пистолет, если не взведен курок и не тронута собачка, сам выстрелить не может. Мало-помалу у следователя являются вполне понятные, сначала отрывочные мысли: люди новые здесь, их взаимные отношения неизвестны; жили вместе, но при совместной жизни и затаенная вражда развивается сильнее; выстрел почти в упор, прямо в сердце, не мог же револьвер сам выстрелить; револьверов два – один боевой, сильный, принадлежал убитому, но зачем-то он в руках у стрелявшего; хотел уезжать, однако, где доказательства этого? Выстрел в пустой квартире, откуда настойчиво удален единственный свидетель; утром какие-то раздраженные разговоры; уж не умышленное ли убийство здесь или не американская ли дуэль, прикрываемая довольно неискусным рассказом о несчастной случайности?, и т. д. Onvavitedanscechemin! [ По этому пути идут быстро (франц.)]
И вот, в один прекрасный день, этот следователь или один из заменивших тебя и меня товарищей прокурора, может быть, и сам, столь ненавистный тебе, прокурор (ведь на дело было бы обращено исключительное внимание министерства юстиции и печати, а в местном обществе толкам и целым легендам не было бы конца) сказал бы тебе: «Послушайте, господин Морошкин, вы ведь занимали должность, требующую знакомства с Уложением о наказаниях, и мне излишне вам напоминать, что собственное сознание всегда служит смягчающим обстоятельством, не исключающим даже и полного оправдания, особливо если потерпевший сам вызвал в обвиняемом раздражение своими действиями. Конечно, это тяжело, но не думаете ли вы, что человек, готовившийся служить правосудию, выкажет уважение к этому правосудию, действуя откровенно и не вступая с ним посредством неправдоподобных объяснений в борьбу, которая, к сожалению, не может окончиться в его пользу? Что если бы… подумайте-ка… Нам больно вам сказать, но не скроем, что мы, во всяком случае, ввиду данных следствия, вынуждены привлечь вас в качестве обвиняемого… и лишить вас свободы!»
Случай этот произвел на Морошкина сильнейшее впечатление. Он хранил всю жизнь пулю, с трудом вытащенную из стены, и мы оба смотрели на происшедшее как на таинственное предупреждение нам обоим на пороге нашей обвинительной деятельности…»
(А. Ф. Кони.Собрание сочинений в восьми томах. Издательство «Юридическая литература» Москва, 1967 г., т. 4. Приемы и задачи прокуратуры).
Какое благородство и великодушие, какое самообладание, какое мужество, какая целеустремленность, направленная на то, как бы не погрешить против истины, как бы не осудить невиновного!
К сожалению, в наши дни механизм осуждения существует и действует, как хорошие часы, а о механизме защиты, оправдания, реабилитации оклеветанного несправедливо человека что-то не слышно. Спросим себя: «Боимся ли мы осудить невиновного?» Боюсь, что многие из нас скажут: «Нет, не боимся!» И тогда мы должны найти в себе мужество, чтобы беспристрастно взглянуть на действительность и признать, что мы гораздо ближе стоим к следователю Столбунскому и ему подобным, нежели к святому доктору Газу, о котором, кстати, сохранилось и такое весьма характерное воспоминание:
«В морозную зимнюю ночь он должен был отправиться к бедняку больному. Не имев терпения дождаться своего старого и кропотливого кучера Егора и не встретив извозчика, он шел торопливо, когда был остановлен в глухом и темном переулке несколькими грабителями, взявшимися за его старую волчью шубу, надетую, по его обычаю, внакидку. Ссылаясь на холод и старость, Гааз просил оставить ему шубу, говоря, что он может простудиться и умереть, а у него на руках много больных, и притом бедных, которым нужна его помощь. Ответ грабителей и их дальнейшие внушительные угрозы понятны. «Если вам так плохо, что вы пошли на такое дело, – сказал им тогда старик, – то придите за шубой ко мне, я велю ее вам отдать или прислать, если скажете куда, и не бойтесь меня, я вас не выдам, зовут меня доктором Гаазом, и живу я в больнице в Малом Казенном переулке… А теперь пустите меня, мне надо к больному…» – «Батюшка, Федор Петрович! – отвечали ему неожиданные собеседники. – Да ты бы так и сказал, кто ты! Да кто ж тебя тронет, да иди себе с Богом! Если позволишь, мы тебя проводим…»
(А.Ф. Кони. Федор Петрович Гааз. М. 2006 г.)
Если, не дай Бог, кому-либо из нас, как и доктору Гаазу, случится повстречать темной ночью лихих людей, мы вряд ли сможем рассчитывать на милость преступников. И не потому, что современные бандиты более жестокие, а потому, что мы сами немилосердные.
Проблема неправедных судов стара, как мир. И в древние времена можно найти все те же пороки, от которых страдают суды современные. Обратимся к Евангелию. Можно сказать, что книжники и фарисеи, добившись у Пилата смертного приговора, одержали победу в информационной войне, которую они вели против Христа Спасителя. Ведь по их слову народ кричал «Распни, распни Его!» Очевидно, в толпу были внедрены люди, в театре таких называют клакеры, которые в нужный момент кричали то, что нужно, а толпа по стадному чувству подхватывала их слова. Каков же был сам суд? На нем, казалось бы, присутствовали все атрибуты суда: и гласность, и законность: «По закону нашему должен умереть». Была даже предоставлена возможность обвиняемому – Спасителю отвечать в свою защиту. Но не было независимости: Пилат испугался быть обвиненным перед Кесарем. Поэтому и суд его был несправедливым, преступно обвинившим Невиновного.
Следует ли в таком случае удивляться словам верного сына России, поэта и религиозного философа, Н.С. Хомякова, с горечью сердца писавшего о своей Родине: «В судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена!» Он горячо любил Россию, верил в ее великую будущность и, видя ее недостатки, страдал, пытался их преодолеть.
Но судят не суды, судят судьи, а они такие же люди, как мы. И мы не прошлые и не современные суды должны обвинять, а самих себя, потому что сами мы черны неправдой черной, и природа наша мало изменилась со времен Иисуса Христа. Пренебрегая Евангельским призывом: «Не судите, да не судимы будете», мы не задумываемся, как будет оправдываться обвиненный нами, например, в грязном пороке невинный человек?
Какие доказательства невиновности для нас будут достаточными? Поверит тот, кто хочет поверить, а кто не хочет верить, тот и не поверит, что бы ему ни говорить, и как его ни убеждать. Да и слушать даже не будет, так как ему и так все ясно, что время напрасно тратить? Господь ищет, как кого помиловать, а мы ищем, как кого осудить. Но ведь это же страшная трагедия, когда все вокруг немилосердны и никто не хочет прийти на помощь невинному! И что будет чувствовать этот невинный, несправедливо осужденный и всеми отверженный?
Очевидно, он будет чувствовать то же, что и героиня сказочного произведения великого советского драматурга Евгения Шварца «Дракон», молодая и прекрасная девушка Эльза, которую против ее воли отдают замуж за циника и негодяя Бургомистра. Он говорит и поступает, как циник и негодяй, и все знают, что он циник и негодяй, но молчат, потому что боятся его и его стражи. И Эльза в отчаянии обращается к этим малодушным людям:
«Друзья мои, друзья! Зачем вы убиваете меня? Это страшно, как во сне. Когда разбойник занес над тобою нож, ты еще можешь спастись. Разбойника убьют, или ты ускользнешь от него… Ну а если нож разбойника вдруг сам бросится на тебя? И веревка его поползет к тебе, как змея, чтобы связать по рукам и ногам? Если даже занавеска с окна его, тихая занавесочка, вдруг тоже бросится на тебя, чтобы заткнуть тебе рот? Что вы все скажете тогда? Я думала, что все вы только послушны дракону, как нож послушен разбойнику. А вы, друзья мои, тоже, оказывается, разбойники! Я не виню вас, вы сами этого не замечаете, но я умоляю вас – опомнитесь! Неужели дракон не умер, а, как это бывало с ним часто, обратился в человека? Тогда превратился он на этот раз во множество людей, и вот они убивают меня. Не убивайте меня! Очнитесь! Боже мой, какая тоска… Разорвите паутину, в которой вы все запутались. Неужели никто не вступится за меня?»
Конечно, в сказке все кончается хорошо, и Ланцелот, спасший Эльзу от Дракона, спасает ее и второй раз. А в нашей жизни? Сила великого мастера в том, что он создает обобщенные типичные образы, звучащие удивительно современно. Мы постоянно сталкиваемся с обвинениями всякого рода, обращенными к самым разным людям, и виновным, и невиновным, потому что осуждать легко, любить трудно. И редки свидетели любви, но они были, есть и будут. Таких свидетелей можно найти среди духовенства, а можно и среди мирян. Таким проповедником любви был Евгений Шварц. Его произведения проникнуты духом самоотверженной, жертвенной любви, и он не боялся о ней говорить. И это несмотря на то, что он жил при советской власти, когда искреннее, проникновенное слово могло стоить жизни.
И как порой созвучны бывают высказывания тех, кто решился быть свидетелем любви, будь то великий святой или самый обычный человек! «Жалейте народ Божий!» — говорил перед кончиной старец Силуан Афонский. А вот с какими словами главный герой пьесы-сказки Шварца, рыцарь Ланцелот, в тяжелом бою одолевший Дракона и смертельно им раненный, обращается к зрительному залу:
«Прощай, Эльза. Я знал, что буду любить тебя всю жизнь… Только не верил, что кончится жизнь так скоро. Прощай, город, прощай, утро, день, вечер. Вот и ночь пришла! Эй вы! Смерть зовет, торопит… Мысли мешаются… Что-то… что-то я не договорил… Эй вы! Не бойтесь. Это можно – не обижать вдов и сирот. Жалеть друг друга тоже можно. Не бойтесь! Жалейте друг друга. Жалейте – и вы будете счастливы! Честное слово, это правда, чистая правда, самая чистая правда, какая есть на земле. Вот и все. А я ухожу. Прощайте».
Удивительно, что эти слова были написаны в 1943 году, то есть еще в то время, когда нашему народу приходилось сражаться на полях Великой Отечественной войны и когда казалось, что нужно не жалеть, а ненавидеть. Но войны кончаются, также как и власть «драконов» и «бургомистров». А души, опаленные ненавистью – будь то ненависть врагов или ненависть к врагам, – врачуются с трудом. Это кропотливая работа, «хуже вышивания», как говорится в той же пьесе Шварца. Но делать эту работу нужно и должно. И начинать следует, разумеется, со своей собственной души.
Да, побеждать любовью трудно. Трудно еще и потому, что победа здесь не очевидна: ведь результат почти никогда не бывает виден сразу, а сам этот путь вызывает, как правило, недоумение и неприятие. Как писал в книге «Преподобный Силуан Афонский» архимандрит Софроний (Сахаров), «нет подвига более трудного, более болезненного, чем подвиг и борьба за любовь; нет свидетельства более страшного, чем свидетельство о любви; и нет проповеди более вызывающей, чем проповедь любви». И, тем не менее, только на пути самоотверженной, сострадательной любви можно обрести подлинный смысл жизни и подлинную веру и найти подлинное счастье.
Редакция Людмилы Крауклис