
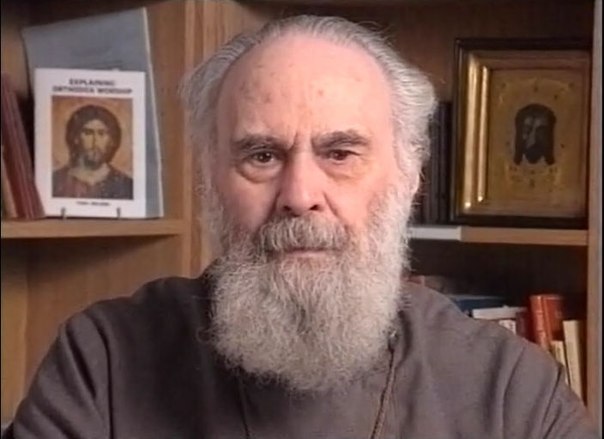 На каждой службе мы молимся “о соединении всех” в Церкви Бога Живого. О каком это единстве мы молимся, и почему нужно именно молиться о нем? Мы молимся, потому что единство, которое разрушил человек, вос-становить может только Бог: критерии его слишком высоки, мерки его не человеческие, а Божии. Такое единство — тайна по природе, чудо по существу. Христианское единство нельзя определить в категориях содружества, сообщества.Это не “совместность”, это “единство”: Да будут они едины, как и Мы — едино, — обращался Господь в Своей последней молитве к Отцу (см. Ин 17:22). Это славный и трепетный призыв и образец, потому что в нем заложено державное повеление для всего рода человеческого: достигнуть подобия Святой Троице, быть Ее образом и Ее откровением; а это и обещание, но также и ответственность. И мы легко забываем и то, и другое. Опыт этого славного и страшно-трепетного единства и есть само бытие, существо Церкви, ее природа: Церковь есть само это единство; Церковь есть едина и нераздельна, хотя христианский мир разбит на части нашими грехами. Просите мира Иерусалиму, граду слитому в одно… (см. Пс 121).
На каждой службе мы молимся “о соединении всех” в Церкви Бога Живого. О каком это единстве мы молимся, и почему нужно именно молиться о нем? Мы молимся, потому что единство, которое разрушил человек, вос-становить может только Бог: критерии его слишком высоки, мерки его не человеческие, а Божии. Такое единство — тайна по природе, чудо по существу. Христианское единство нельзя определить в категориях содружества, сообщества.Это не “совместность”, это “единство”: Да будут они едины, как и Мы — едино, — обращался Господь в Своей последней молитве к Отцу (см. Ин 17:22). Это славный и трепетный призыв и образец, потому что в нем заложено державное повеление для всего рода человеческого: достигнуть подобия Святой Троице, быть Ее образом и Ее откровением; а это и обещание, но также и ответственность. И мы легко забываем и то, и другое. Опыт этого славного и страшно-трепетного единства и есть само бытие, существо Церкви, ее природа: Церковь есть само это единство; Церковь есть едина и нераздельна, хотя христианский мир разбит на части нашими грехами. Просите мира Иерусалиму, граду слитому в одно… (см. Пс 121).
Слишком часто Церковь мыслится как самое наисвященное общество людей, объединенных и связанных между собой общей верой и общей надеждой на одного и того же Бога, их любовью к одному и тому же Господу; многим представляется, что единство Самого Бога, к Которому разделенные и сопротивостоящие христиане прибегают, — хотя и исключительный, но достаточный якорь их единства. Такой критерий слишком мелок; и также слишком мелок лежащий в его основе опыт о природе и о жизни Церкви. Церковь не есть просто человеческое объединение. Это не объединение, но организм, и его члены — не “составные части” коллективного целого, но подлинные, живые члены сложного, но единого тела (1 Кор 12:27): не существует такого явления как христианский индивид. И тело это, одновременно и равно, человеческое и Божественное. Человеческое — потому что мы — его члены; и не только мы, а также и все почившие верующие, потому что “Бог не есть Бог мертвых, но живых” (Мф 22:32), и все для Него живы. Но Церковь также и Божественна: Сам Господь, истинный Человек и истинный Бог, есть ее Глава, Первенец среди усопших, один из ее членов; в день Пятидесятницы Дух Святой вселился в нее и пребывает в каждом из ее убежденных членов; и наша жизнь сокрыта со Христом в Боге Отце; мы — сыновья и дочери по приобщению.
Церковь есть место и средство, способ соединения Бога с Его тварями. Это — новое творение; Царство, уже пришедшее в силе; единство, вос-созданное с Богом и в Боге — в любви и свободе. Слова, которые кажутся такими жесткими: “нет спасения вне Церкви”, глубоко справедливы, потому что Церковь и есть спасение: место встречи Бога с человеком, но также, по существу, самая тайна их соединения. В Церкви Бог оделяет Свою тварь Своей Божественной жизнью, отдает Себя свободно, в любви; человек становится причастником Божественной природы (2 Петр 1:4) и в любви, свободно принимает Бога, становится Богом по приобщению, когда его человеческая природа пронизывается благодатью, Божест-венной и нетварной, как железо может быть пронизано огнем. Бог, принятый любовью, больше не чужд Своей твари, как и человек больше не чужак в Царстве Божием. И это новое взаимоотношение вырастает в подлинную молитву единства, которая есть поклоняющаяся любовь и преданное служение.
Церковь не ищет единства и полноты; она есть полнота и единство уже данные и принятые. И это единство есть образ Святой Троицы, подобие Божественной жизни, славный и страшный и животворящий опыт, переживание для самой Церкви, — и тоже откровение всему творению: “Да будут все едино <…> да уверует мир, что Ты послал Меня” (Ин 17:21), и имели бы жизнь вечную, потому что “сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа” (Ин 17:3).
Знать Бога — это глубинный и неизъяснимый словами опыт Церкви, вйдомый только ей самой. Быть откровением Божиим — ее задача и ответственность; будучи Его откровением, она тем самым есть свидетельница своего Бога, потому что обезбоженный мир видит Бога только в его Церкви и через нее, судит Христа по Его Церкви; и прозревает Троичную тайну и тайну Божественной жизни, познавая истинное призвание человечества по образу и явлению этой новой жизни — которая есть Церковь в единстве ее познания, ее поклонения и ее любви. И это явление должно быть откровением тайны жизни не только на словах, но славной жизнью единства с Богом и в Боге. И мы верим, что все еще существует, несмотря на разделения и среди них, единая, нераздельная Церковь — потому что иначе нет Церкви вообще, нет новой твари, нет Царства, пришедшего в силе, и наш Господь и Бог потерпел провал в Своем деле сотворить все новым и единым: Се, творю все новое…
Мы не можем обходить стороной христианские разделения; мы должны сознавать, что расколы являются зачатком скрытого богоотступничества — отречения от воли Божией, разрушением Его дела. Если мы действительно понимаем, что означает и что есть единство, мы не можем мириться с нашими разделениями, нашим замаскированным отступничеством в поступках и жизни. Мы должны сделать эту отвергнутую волю Божию своей заботой, и всем сердцем приступить к делу. Две воли управляют историей: воля Божия, всемогущая, которая может создать все из ничего и обновить обветшавшее, и воля человека, слабая, неспособная создать и обновить, но обладающая страшной силой воспротивиться воле Божией. Она может разрушить, но не может воссоздать. И человек может только переломить себя и молиться. И мы это сделаем: будем молиться Богу, чтобы Его воля восстановила наше вселенское единство. Но, как говорит святой Ефрем Сирин: Не заключай молитву свою в слова, но преврати в молитву всю свою жизнь…
Будем молиться о единстве в тайниках наших сердец, в тесном кругу наших семей, в содружестве наших общин — но и соединимся вместе в молитве, приобщаясь к нашей общей тоске по единству. Вкусим горечь нашей разделенности — с болью, не стараясь избежать этой горечи, неся крест своего позора. Осознаем свою нужду и свою ответственность — и откроем свои сердца любви и смирению, приходя к нашим разделенным братьям не как господа, а как служители, поистине — как рабы. Мы должны широко распахнуть наш ум, расширить наши познания, углубить наше понимание — научиться различать грешника от его греха, заблуждающегося от заблуждения и все более осознавать наличие подлинной духовной жизни в различных христианских обществах (см. Ин 14:2).
Мы должны встречаться, учиться и молиться вместе… Но сделаем и нечто большее: “единство” тождественно единению с Богом, и раньше, чем где бы то ни было, единство начинается в глубине наших сердец: Блаженны чистые сердцем, потому что они узрят Бога. Путь, ведущий ко всеобщему единству, есть наша личная святость; путь этот очень прост: Сыне, — говорит Господь, — дай Мне твое сердце, и Я сотворю все, — всесердечная, деятельная самоотдача, позволяющая нам взывать к Богу, называя Отцом Небесным Бога. И Он услышит наш зов, как услышал молитву Своего Единородного Сына, и дарует нам это единство, приятное Его воле, ибо сказано: Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божиими.
Выступление русского православного духовного руководителя Содружества св. мч. Албания и преп. Сергия иеромонаха Антония на собрании, посвященном христианскому единству, 19 января 1950 г. в Какстон Холл, Вестминстер.
Перевод с английского
Перепечатка с разрешения издателей из “Соборного вестника” за янв. 1992, № 246.
ПРОПОВЕДЬ ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕМИРНОГО СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ
(Берлин, август 1974 г.)
В одной из древних литургий ранней, неразделенной еще Церкви Вечеря Господня предваряется следующими словами:
“Свят еси и Пресвят, и великолепна слава Твоя; Ты, Который мир Твой так возлюбил, что Сына Твоего Единородного дал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную; Который пришел, и исполнил все, что было написано, и в ночь, когда был предан, или, скорее, Сам Себя отдал за жизнь мира, взял хлеб в святые Свои и пречистые и непорочные руки, благодарил и благословил, освятил, преломил и дал святым Своим ученикам, сказав: Примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вы ломимое во оставление грехов. Также и чашу, по вечере, сказав: Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Нового Завета, за вас и за многих изливаемая во оставление грехов. Сие творите в Мое воспоминание, ибо каждый раз, как едите Хлеб сей и Чашу сию пиете, Мою смерть возвещаете, Мое воскресение исповедаете”.
И сейчас мы собрались на Вечерю Господню, в послушание заповеди Христа, для того, чтобы исполнить Его волю в воспоминание о Нем.
Он стал человеком по любви к Нам; Он жил среди нас; Он вкусил гефсиманское борение и вышел из него победителем; прошел через оставленность на Кресте, понес смерть презренного преступника, сошел в царство смерти для того, чтобы спасти нас; и радость Его — в спасении каждого грешника. И этот путь Господь заповедал Своим ученикам, а через них — каждому из нас.
И однако, мы стоим здесь, разделенные именно в минуту самой глубокой и близкой встречи с Господом, разделенные грехом, но также и верностью нашим различным традициям; мы не можем попросту отказаться от этих традиций, не утратив при этом какой-то целостности.
Мы стоим разделенными перед трапезой Господней. Он зовет нас, но мы не решаемся подойти вместе к Его трапезе, потому что это не было бы правдиво; это значило бы, что мы провозглашаем то единство, которое мы должны трудом достигнуть, но которого еще нет. Это единство может быть дано нам как дар Божий, когда мы станем подлинными христианами не только в вере нашей, но и во всех проявлениях нашей жизни.
Так неужели мы ничего не можем сделать, чтобы явить вместе послушание заповеди Христовой? Неужели мы навсегда и непоправимо разделены перед трапезой Господней? Разве Христос установил Трапезу Свою только для того, чтобы мы участвовали в торжестве Его воскресения, победы жизни над смертью? И разве эта Священная Трапеза, словами молитвы, которую я произнес, исповедует только воскресение Христа? Она исповедует также и Его смерть… Разве приобщение к Господу может быть только прообразом чего-то будущего?
Двое из учеников Его, услышав, что Он воскреснет, стали просить своего Учителя о почетном месте для себя в Царствии Божием, по правую и левую руку от Него. И Христос им ответил: “Можете ли пить чашу, которую Я буду пить?..” (Мф 20:22).
В этом заключено то, что должно характеризовать нашу приобщенность ко Христу: мы должны быть готовы разделить вcю судьбу Иисуса; только тогда мы можем надеяться получить часть и в Его вечной славе. И когда вечность водворяется в нашей жизни, пронизывает ее, мы можем разделить и жизнь и святость этой Трапезы. Мы становимся тогда подлинными членами Тела Христова, ломимого во спасение мира.
Суть дела — в этом: если мы преломляем хлеб с Ним, если мы пьем от Его чаши, мы становимся Его соратниками. Мы призваны к трапезе Господней как друзья, имеющие равные с Ним права; разделяя с Ним признаки Его господства, мы тем самым призываемся разделить с Ним и Его страдание. Ибо мы, ветви, настолько едины с Ним, Лозой, так тесно, так полно с Ним соединены, что Он может сказать нам, как сказал Своим ученикам после Воскресения: “Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас” (Ин 20:21). Не говорит ли Он каждому из нас: Идите в мир, волей, не по принуждению, а как Я пошел; примите на себя все ограничения падшего мира; разделите всякое страдание, всякий голод, всякое одиночество, всякую человеческую беду. Но разделите также все, что есть в мире любви, красоты, славы и ликования. Живите среди людей, но оставайтесь людьми свободными: без страха и корысти, без превозношения и без ненависти.
Живите среди них и для них всю свою жизнь. Справедливо сказал апостол Павел: “Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение” (Флп 1:21): легче умереть, сгорев скорой смертью, чем выдерживать долгую борьбу для того, чтобы восторжествовали милосердие и сострадание, справедливость и любовь.
Иисус хочет сказать этим: Сойдите, если нужно, в самые мрачные задворки ада, как Я сошел; с теми, которые были узниками смерти, Я сошел в долину смерти; так же идите и вы в этот человеческий ад… Для многих в наши дни ад — это старческие дома, психиатрические больницы, тюремные камеры, колючая проволока вокруг лагерей… Идите в самые глубины беспросветности, одиночества и отчаяния, страха и мучений совести, горечи и ненависти.
Сойдите в этот ад и оставайтесь там, живые, как Я это сделал, живые той жизнью, которой никто не может у вас отнять. Дайте мертвым возможность приобщиться этой жизни, разделить ее. Раскройтесь, чтобы мир Божественный излился на вас, потому что он — Божий. Светитесь радостью, которой не одолеть ни аду, ни мучению. Иисус говорит нам: Я родился незаметным, незамеченным в Палестине, маленькой стране, оккупированной, униженной, которую римляне лишили независимости и свободы; Я был приговорен к смерти как уголовник, был покинут людьми, даже друзьями, отвергнут теми, кто Меня превозносил и поддерживал. Уделом Моим было умереть вне стен града человеческого, потому что не нашлось Мне места в нем. Уделом Моим было умереть одиноким, оставленным Самим Богом, потому что Я до конца захотел быть солидарным с людьми, которых Я пришел отпустить на свободу. Я захотел раскрыть перед ними любовь, которая не знает пределов, любовь, которая сильнее смерти. Ничто не было слишком незначительным, слишком малым, чего бы Я не сделал для человека… Не умыл ли Я ноги Своим ученикам? Не сделал ли Я Иуду Своим другом? Не спросил ли Я Петра просто: Любишь ли ты еще Меня?.. Я не спросил его, после того как он трижды отрекся от Меня, стыдно ли ему, раскаивается ли он… Когда Я был покинут и боролся в молитве, Я не стал упрекать Своих учеников, которые слишком устали, чтобы побыть со Мной, и спали… Когда слуга Первосвященника ударил Меня — стал ли Я защищаться? Когда стали Меня пытать, не молился ли Я: Прости им, Отче, они не знают, что делают?
Сегодня Иисус ставит перед нами вопрос: чту все это, если не любовь, сострадание и всеконечная солидарность со всеми людьми? Людьми доброй воли, которые радовали Меня, и людьми злой воли, за которых Я умер? Не предостерег ли Я вас: Не признаю Я Своими учениками всех, которые говорят Мне “Господи, Господи…”, не предостерег ли Я вас: Придут многие и скажут: вот, мы были в Доме Господнем, — и Я отвечу им: Не знаю вас…
Хлеб ломимый и изливающаяся кровь Тайной Вечери означают все это и еще многое другое. И пока мы не следуем за Христом таким абсолютным образом и не творим всего этого в Его воспоминание, мы не можем разделить друг с другом эту Святую Вечерю, эту трапезу, в которой провозглашается Его воскресение, как прообраз Царства Божия.
Будем делать все, что уже можно сделать сегодня, в верности и послушании. Будем жить и, если нужно, отдадим свою жизнь, как это сделал Христос. Будем поступать так, каждый из нас, в отдельности, и как члены великой общины учеников Христовых. И тогда мы обнаружим, что перегородки, разделявшие нас, пали сами собой. Мы встретимся за трапезой Господней, как были собраны Его ученики. Он умоет наши ноги, помажет наши головы; Он посадит нас на почетные места и послужит каждому из нас с лаской и смирением.
Лишь в конце дней наших и в конце мира будут явлены дочери и сыны Божии. Не всегда мир наш будет местом событий трагических и страшных; он станет местом господства Бога нашего, и мы можем трудиться ради наступления этого господства. Тогда не власть денег, не подавление человека человеком и угроза уничтожения всякой жизни оружием будут в центре мировых событий, но престол Божий и трапеза Вечери Господа нашего. Аминь.
Перевод с английского
Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата, 1974, № 85—88.
ИЗ БЕСЕД
Ответ на вопрос: Ваше мнение о экуменическом движении?
Экуменическое движение родилось из сознания относительно небольшой группы людей, что христиане разошлись так давно и так давно перестали общаться, что они перестали вообще друг друга понимать, и что надо создать какую-то организацию, место, где христиане разных вероисповеданий будут встречаться не с тем, чтобы друг друга критиковать или рвать, а чтобы друг перед другом свидетельствовать о том, чтв они за столетия узнали о Боге, узнали о жизни, узнали о Церкви. Это может быть много или мало — эта тема не поднималась, поднимался вопрос о том, что мы разошлись и больше друг друга не знаем. И был замечательный период между 1948 годом и концом пятидесятых — началом шестидесятых годов, когда христиане разных вероисповеданий встречались в экуменическом движении, зная, что собеседник открыт, а не закрыт, что собеседник будет слушать с искренним желанием услышать то, что ему говорят, и понять то, что ему говорят, хотя и не обязательно согласится; что если будет возражение, вопросы или спор, то для того, чтобы понять друг друга, а не для того, чтобы друг друга разрушать. Православные тогда очень много свидетельствовали о своей вере; и целый мир католический и протестантский вдруг обнаружил, что Православие существует, что это не просто разновидность, причем “подпорченная” разновидность западных вероисповеданий, а что оно имеет свое лицо, свои глубины, и имеет, чту сказать. Затем, когда мы привыкли друг с другом говорить, начали говорить о существующих различиях и о том, что нас разделяет; и был интересный, живой период, когда мы сличали наши разногласия, причем опять-таки не с тем, чтобы друг друга обращать, а с тем, чтобы осведомить друг друга и понять один другого.
А потом экуменическое движение стало (во всяком случае — для меня) гораздо более сложной проблемой, потому что перестали ставить основные вопросы и стали расширять членство и для этого снижать критерии и допускать двусмысленные формулировки. Сначала в экуменическом движении могли участвовать те, кто верит в Божество Иисуса Христа и воспринимает Его как своего Спасителя. Потом решили внести новую базу, которая была бы богословски “более богата” и которая оказалась на самом деле вроде трясины. Было предложено, что не может участвовать, не может быть членом движения Церковь, которая не верит в Бога Единого в Трех Лицах. И тут случилась беда, потому что некоторые церкви — одна из Голландии и одна из Швей-царии — написали заявление, что они готовы на эту формулировку при условии, что не будет указано ни в какой мере, чту мы хотим сказать, когда говорим о Лицах: это могут быть реальные Лица, это может быть иносказание, это может быть понятие — только об этом ничего не должно быть сказано. И к сожалению на съезде в Дели это было принято. Сказано было: ну хорошо; соглашайтесь с формулировкой, а мы не будем с вас требовать никаких разъяснений по содержанию… И в тот момент стало гораздо все сложнее, потому что когда было это, количественно очень элемен-тарное, требование о вере в Божество Христа и в то, что Он Спаситель, мы знали, где мы находимся; когда ввели эту Троичную формулу, но расплывчатую, стало гораздо сложнее знать, с кем имеешь дело.
Затем следующая стадия, которая уже началась в Дели, была озабоченность о проблемах современности, — в тот момент о голоде, об обездоленности ряда стран, в частности, Индии, некоторых стран Африки; и было внесено предложение, что экуменическое движение будет всеми силами стараться помогать нуждающимся без всякого различия вероисповедания, политического режима и т. д.; и было сделано предложение такую формулировку ввести, что мы будем делать вместе все то, что по совести можем делать вместе, и отказываться вместе делать только то, что по религиозной нашей совести мы не считаем возможным делать вместе, скажем, приобщаться вместе или некоторые иные вещи такого рода. Эта стадия усложнила все положение тем, что привнесла политические моменты, моменты такого рода как борьба с расизмом, с одной стороны, борьба с неоколониализмом, борьба с колониализмом вообще. И тут, конечно, от того, что Ассамблея — очень сложное общество и представляет собой бесконечное количество политических и других оттенков, началась поляризация в какую-то сторону. Одних можно было ругать сколько угодно, и даже добродетельно их ругать: скажем, Южную Африку каждый ругал сколько Бог на душу положит; а некоторых других — нет, ругать не надо, потому что они “в становлении”; скажем, террористическое движение в Африке ругать нельзя, потому что это часть борьбы с расизмом. И тут стало очень сложно, очень скользко и, я бы сказал, очень неприглядно, потому что тогда стали выступать на первый план политические интересы, политические симпатии. Помню, я выступал по какому-то поводу, и мне Генеральный секретарь Всеафриканской христианской конференции сказал: Вы бы помолчали, — все равно мы все будем голосовать против вас, потому что мы от этих людей получаем оружие… Этим все сказано было, и тут никакая принципиальность больше не играла роли. Поэтому сейчас экуменическое движение стало очень сложным явлением. Я уже несколько лет не участвую в нем как официальное лицо, но лет двадцать участвовал как представитель Русской Церкви; и первые периоды были очень богаты содержанием; теперь все стало очень политично, социально, и тема о христианском единстве ушла далеко на задний план.
Это — экуменическое движение в официальном его виде. На местах оно сыграло громадную роль тем, что сделало возможным для людей встречаться без ненависти, встречаться с интересом, с какой-то открытостью, даже молиться вместе. На ранних межцерковных собраниях католикам было запрещено молиться с другими; поэтому католики стояли за дверью собрания в ожидании, что собрание кончит молиться, и потом вступали и садились на места для обсуждения темы; а когда в конце предстояла молитва, все католики выходили поспешно, чтобы только не “оскверниться” общей молитвой. Теперь этого нет; теперь они участвуют, порой руководят общей молитвой, порой молятся вместе с другими. Это же в том или ином виде относится к разным другим группировкам; атмосфера между христианами изменилась колоссально благодаря экуменической работе; но сближение сейчас, в широком масштабе, в экуменическом движении как таковом, уже отошло на второй план, — есть слишком много иных тем. А в некоторых странах (боюсь говорит о всех, но Англию я знаю довольно-таки хорошо) все попытки воссоединения пошли на снижение, то есть на абсолютный минимум: если ты можешь сказать, что веришь во Христа, хватит с нас; веришь ли ты, что Он Бог, веришь ли конкретно в Евангелие, веришь ли в Воскресение Христово и т. д. — мы не будем тебя спрашивать; мы только спросим: “Веришь ли во Христа?” И на этих началах, конечно, не может быть никакого воссоединения, которое бы чего-либо стоило.
Сейчас огромный кризис веры на Западе, конкретной веры. Я вам могу дать примеры. Профессор догматики в университете в Оксфорде выпустил книгу, которая называется “Миф о Воплощении”, — он просто не верит в Воплощение… Наша православная студентка на богословском факультете в Лондоне участвовала в семинаре и что-то сказала о Воскресении Христовом; профессор-англиканин ей сказал: Не саботируйте собрание! Она возразила: Простите, я верую в Воскресение… — Глупости! Если вы будете продолжать об этом говорить, я вас попрошу выйти вон! — и он ее исключил из семинара. Третий пример: у нас приход в северной Голландии, в городе Гронинген. На наше богослужение ходил местный католический епископ. Я его спросил как-то: Почему Вы ходите? Мы Вам только рады, но почему Вам хочется молиться с нами?.. Он ответил: Потому что мне необходимо побывать среди верующих. Я говорю: А мало ли у Вас своих католиков? — Знаете, половина моего духовенства больше не верит в Воскресение и в Божество Иисуса Христа… Остается образ Христа как человека бесподобного, который нам показывает, каким должен быть человек; Богочеловека нет.
Я вам дал, конечно, очень крайние примеры, но такие взгляды сечас очень распространены. Скажем, я четыре года не могу выступить на Би-Би-Си по-английски, потому что они не согласны на проповедь такой веры, какую я бы проповедовал. Я говорил о Божестве Христа и т. д., и мне сказали: Простите, Вы принадлежите к другому столетию! — и с тех пор больше не приглашают. Я знаю некоторых епископов Англиканской Церкви, которым туда ход заказан, потому что они веруют, — просто в Евангелие веруют. Так что кризис действительно очень серьезный, и в результате голод по Православию на Западе вообще, и в частности — в Англии, которую я просто больше знаю, очень значительный. К нам обращаются люди всех вероисповеданий для того, чтобы мы поддержали в них веру; не обязательно, чтобы мы приняли их в Православие, а просто: “Поддержите нас, потому что мы погибаем, мы тонем в безверии нашей Церкви”. Это очень трагично.
Мы не принимаем людей легко. Переметнуться в другую Церковь, потому что вам перестало быть вмоготу жить в своей, недостаточно; надо становиться православным по положительным причинам, а не по отрицательным. Я помню собрание пятидесяти священников в Шотландии, которые в присутствии их епископа мне сказали, что если Англиканская Церковь пойдет дальше, они будут просить о соединении с Православной Церковью. Я им ответил: Я вас не приму, потому что вы не в Православие идете, вы уходите от англиканства… Один из них спрашивает А что за разница? — А очень просто: что ты Машу разлюбил — еще не основание для того, чтобы жениться на Паше, вот и все. Надо иметь какие-то положительные данные, чтобы выбрать веру, в которой, в общем, нелегко жить. У нас все-таки слишком мало Православия в Англии, чтобы человеку, делающемуся православным, было легко. Если вы живете в одном из центров, где у вас есть храм или где бывают богослужения, это еще не так плохо, хотя вы можете разорвать свои отношения с семьей и с вашим привычным окружением; но если вы живете где-то, где ничего нет и, вероятно, еще десятилетие-другое ничего не будет, что тогда? Для этого нужно быть очень крепким в вере. Вы это понимаете больше меня, но приходится смотреть очень осторожно.
Сейчас преподавание богословия в Англии стало таким “вещественным”. Возьмите Новый Завет: преподается язык, грамматика, разбирается достоверность или недостоверность тех или других рукописей и т. д., и почти ничего не остается от сути (Евангелия). Помню, группа студентов, которые должны были быть рукоположены в Англиканской Церкви, просили меня провести с ними трехдневное говение, то есть беседы о духовной жизни и частные беседы о их собственной духовной жизни; и на заключительном собрании один из студентов от имени других при всех преподавателях поставил мне вопрос: Как нам вновь найти ту веру, которая нас привела в богословскую школу и которую богословская школа раз-рушила?.. Вот каково положение.
И конечно, у нас есть свое задание: просто проповедовать Евангелие, не ставя цели “обращать”: кто придет — тот придет, причем приходят многие. В прошлом месяце я принял в Православие семь человек университетской молодежи, после трех- или пятилетней подготовки. Мы не стараемся “завлекать” людей: приходит тот, кто хочет, и мы их выдерживаем долго; но зато они знают, куда пришли и для чего. Наши обстоятельства гораздо проще здешних (т. е. в СССР — ред.), поэтому мы можем себе позволить готовить людей без конца, и выдерживать их, и мучить их ожиданием; так у нас жизнь течет, и Православие рождается просто стихийным образом.
Я вам просто дам пример. В одной деревушке на юго-за-паде Англии молодой человек, который преподавал в соседнем городе драматическое искусство, набрел на какую-то книгу о Православии; прочел, увлекся; прочел другую, третью, пятую, десятую; стал ходить, когда мог, в Православную церковь и решил, что нет для него другого духовного родного дома, утчего дома. У него жена и дочь; и он решил, что никогда его жена не согласится на Православие, поэтому он год-другой ничего ей не говорил; просто, когда мог, ходил, молился. Как-то он взял ее с собой в Православную церковь; когда они вышли, его жена ему говорит: К а к ты мог меня раньше сюда не привести? Разве ты не понимаешь, что это — единственная Церковь, к которой я могла бы принадлежать?.. Приняли они православие через год-другой и начали молиться, у себя на дому каждое утро совершать утренние молитвы и вычитывать утреню, каждый вечер — вечерню и вечерние молитвы. Некоторые односельчане стали их просить: нельзя ли с вами молиться? И так создалась группа из двадцати пяти человек, которые в течение нескольких лет приняли Православие; потом ко мне обратились, говорят: Слушайте, у нас вот есть этот Джон; он нам дал Православие, — почему вы его нам не дадите священником?.. Я его рукоположил, и там приход, в какой-то деревне, куда совершенно незачем было православию залетать — а есть. И в целом ряде мест вот так рождается маленькая группа в три человека, пять, десять человек; передвигаются люди, попадает куда-то живой человек и начинает оживлять жизнь, и так постепенно складывается что-то. Тридцать лет тому назад у нас был один священник и один приход Русской Православной Церкви на всю Великобри-танию и Ирландию; теперь у нас восемь приходов, восемь священников, несколько диаконов и семь или восемь мест, где мы регулярно совершаем богослужение.
Прихожане — смесь. Греки — особь статья; православных греков в Англии почти 150 тысяч, это большей частью выходцы из Кипра, которые переехали в Англию в момент беспорядков, войны там; они живут густыми массами, английскому языку не научились за пятнадцать лет и не научатся за следующие десять, и живут они своими закрытыми общинами. У нас раз в год, в воскресенье Торжества Православия, бывает всеправославное богослужение, толпы собираются, мы друг на друга смотрим и улыбаемся; они говорят: “Благословите!” — я их благословляю, и после этого конец всему нашему разговору.
В русской области у нас есть первое поколение наших эмигрантов. Самой старшей нашей прихожанке сейчас подходит сто первый год. Я, хотя мне теперь под 65, из молодых в этой группе. Это основная чисто русская группа: и русского языка, и русской культуры, и русского воспитания; но затем идут четыре поколения смешанных браков. Наша староста — моя сверстница, старый мой друг, вполне русская по образованию, культуре и т. д.; ее мать вышла замуж за англичанина в России еще лет за десять до революции. Она, значит, полуангличанка; сама вышла замуж за англичанина, который после пятнадцати лет был принят в Православие. Дочь и сын уже четвертушки, они поженились и вышли замуж за англичан; сейчас я крещу их детей, в которых одна осьмушка русской крови. Как сказать: они русские или нет? Да, в каком-то смысле они русские; но конечно, есть много семей, где два поколения назад уже потеряна всякая связь — с русским языком, во всяком случае… И потом есть у нас англичане, ставшие православными по различным обстоятельствам; очень многие просто потому, что слышали проповеди, слышали лекции, прочли какие-нибудь книги, — и прибились.
Одна группа была очень забавная. Я в 1967 или 1968 году в течение недели проповедовал на улицах в Оксфорде. Просто становился где-нибудь, подбиралось несколько человек, я в течение часа проповедовал Евангелие, а в течение полутора часов отвечал на вопросы. В какой-то день ко мне подошел юноша — мохнатый, лохматый, с длинными волосами, одетый в длинную свитку, и говорит: Чего Вы на наши собрания не ходите? Я спрашиваю: А какие собрания? — У нас целая группа хиппи здесь, а чем Вы не хиппи? одеты, как никто, вид у Вас совершенно странный, вокруг шеи какая-то цепь с чем-то: такой же хиппи, только из старых… Я сказал, что если так, то конечно приду на собрание; когда следующее? — Сегодня вечером приходите… Вот, пришел я на собрание: громадная комната, матрасы по стенам, свечки стоят на голом полу (и для освещения и для прикуривания), и один из молодых людей стоит, свои стихи читает. Я пробрался в какой-то угол, сел на матрас и стал слушать. Первое, что меня поразило, это — как его слушали. Там было человек пятьдесят, и слушали его благоговейно, как слушают человека, который говорит о себе самое сокровенное и которого слушают с вниманием и уважением к тому, что он свою душу открывает. В какой-то момент он кончил, сказал: Ну, кажется, все, — и пошел сел на свой матрас; потом еще кто-то выступил, и еще кто-то. Я подумал: если я дикий, почему бы мне не выступить? — и на четвереньках выбрался вперед и говорю: я хочу сказать нечто; я хочу сказать вам, как и почему я стал верующим. Я им рассказал сначала о ранних годах эмиграции, о том, как жилось — потому что им не вредно сообразить, что жилось-то хуже, чем им; мы не были такие мохнатые, кудластые, но ели меньше… Потом рассказал, каким образом я стал верующим; когда кончил, была такая минута молчания, началась драматическая пауза; я подумал: ух, как благоговейно все это звучит! — Но благоговение кончилось, потому что вдруг открылась дверь, огромный барбос ворвался в комнату, промчался вокруг прямо ко мне, ткнулся мордой в лицо и удрал. Этим, конечно, кончилась мистическая атмосфера, драматический эффект был уничтожен; после этого мы еще довольно долго сидели, рассуждали, и кто-то из них ко мне подошел и говорит: Хорошо, что Вы пришли! — А почему? — А у Вас глаза добрые… — А что? — Знаете, Вы на нас смо-трите и не презираете… Такая реакция очень интересна была, потому что, конечно, их принимают и в хвост и в гриву.
Это была первая встреча; потом стали ко мне в церковь ходить хиппи. Наши старушки, я бы сказал, не в телячьем восторге были, — подумайте о своих здешних — когда они стали появляться: Отец Антоний, неужели они всю церковь собой заполнят?.. — А их только сорок или пятьдесят, и стоят они очень хорошо… В общем, восторга не было. После какого-то богослужения я их словил и пригласил к себе, и потом они год ко мне ходили раз в месяц пить чай и разговаривать; потом стали ходить на лекции, которые у нас устраиваются. А потом в какой-то день они пришли и говорят: Знаете, мы хотим молиться; не хотите ли Вы провести с нами всенощное бдение и нас учить?.. И мы десять часов промолились. Это совсем неплохо, чтобы группа из человек шестидесяти девчат и молодых людей десять часов сряду молилась — это показывает, что они действительно молиться хотели. Причем мы, конечно, не совершали богослужение; было бы бессмысленно совершать православную всенощную для группы людей, которые вообще не знают, на чем они стоят. Но мы сделали так: нас было трое, мы разделили время на три периода по три часа, и в интервалах после каждого периода из трех часов был кофе и хлеб (все-таки они пришли с работы или откуда-то, где они уставали). Мы вели так: каждый из нас (было два англичанина) делал вступление на какую-то тему; потом был период с полчаса; а потом такое размышление вслух, то есть эта же тема разбивалась на маленькие предложения, над которыми каждый должен был подумать несколько минут и которые потом собирались в форме короткой молитвы. Так мы десять часов промолились.
Потом они меня пригласили, поставили тему о святости, и мы три дня провели вместе. Мы молились, сидели вместе, я вел беседу с ними, были общие вопросы; потом, кто хотел, приходил ко мне со своими личными вопросами. И сейчас целый ряд из них прибивается к Православной Церкви. Я их спрашивал: почему? Они говорят: Потому что православные знают, во что они веруют, и потому что у вас в Церкви есть молитва; не приходится (как некоторые говорили) “приносить молитву с собой”, можно влиться в существующую молитву.
Москва, 12 сентября 1978 г.