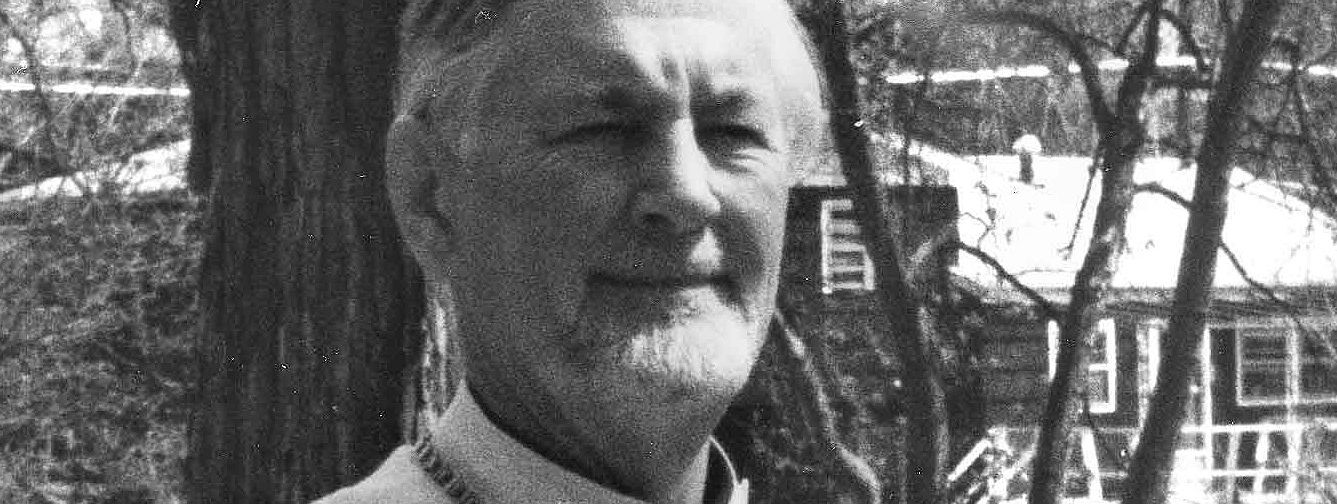Беседа 7. «Взрыв» русского культурного самосознания в XIX веке (1)
Знаменитый французский писатель Поль Валери назвал русскую культуру XIX века восьмым чудом света. И действительно, со многих точек зрения она представляется чудом.
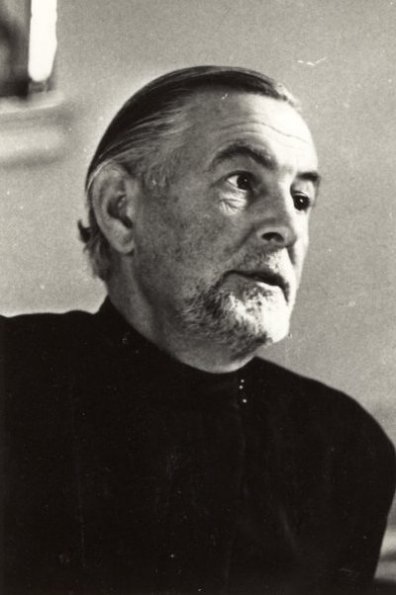 Прежде всего, конечно, поразителен и почти необъясним ее расцвет, всего через сто лет после глубочайшей революции, произведенной Петром Великим. Нельзя забывать, что когда в Англии творил Шекспир, то в России царствовал Иван Грозный, что золотой век французской классики – Корнель, Расин – совпадает по времени с царствованием у нас Алексея Михайловича и церковным расколом.
Прежде всего, конечно, поразителен и почти необъясним ее расцвет, всего через сто лет после глубочайшей революции, произведенной Петром Великим. Нельзя забывать, что когда в Англии творил Шекспир, то в России царствовал Иван Грозный, что золотой век французской классики – Корнель, Расин – совпадает по времени с царствованием у нас Алексея Михайловича и церковным расколом.
Нельзя забывать и о том, что Франции и Англии для создания вершин их национальных культур понадобились долгие века, тогда как Россия обошлась одним веком.
Таким образом, первое, что поражает в развитии русской культуры, это почти немедленное ее вступление в свой собственный «золотой век», характер ее созревания, как своеобразного «взрыва».
Второе отличительное и тоже чудесное свойство этой культуры – это то, что она создалась в итоге именно глубочайшей «культурной революции» – иначе трудно назвать тот перевод России со старых на новые пути, который так круто осуществил Петр Великий.
В Англии, например, прямая линия развития и преемства соединяет Шекспира с одним из основоположников английской литературы Чосером; французские классики XVII века немыслимы без знаменитой поэтической Плеяды XVI века и всего предшествующего медленного созревания литературной традиции. А в России это развитие произошло чуть ли не молниеносно, сразу, и при том без подготовки, без предварительного развития привело к качественно новому явлению.
Достаточно сравнить русский язык приказов Петра Великого с совершеннейшими в русской поэзии строфами «Медного всадника», чтобы увидеть разделяющую их почти пропасть…
И, наконец, третье чудо – это тот знаменитый дар «всемирной отзывчивости», о котором говорил в своей Пушкинской речи Достоевский и которым, действительно, с самого начала отмечена русская культура на ее вершине, достигнутой в XIX веке. Страна, которая несколько веков была оторвана от других культур, от «великого семейства» рода человеческого, по выражению Чаадаева, не только легко вступила в это семейство, не только в своей собственной культуре сумела отразить культурные ценности других народов, но еще и смогла произвести внутри себя как бы творческий синтез этих культур.
Всё это нужно помнить, говоря об основах русской культуры и стараясь понять сложную и подчас трагическую диалектику ее развития. Поэтому остановимся немного на каждом из аспектов русского культурного «чуда». Ибо чудо – это, конечно, выражение риторическое, как бы условное. В таком масштабе и такой глубины «чудес» не бывает, сколько бы ни казалось чудесным возникновение, например, отдельных гениев.
Гениальному человеку требуется прежде всего материал и среда, чтобы его гений мог воплотиться. Появление Данте было бы невозможно, если бы у Италии в то время не было опыта созидания многовековой великой средневековой культуры и того «мироощущения» – понимания, видения, переживания мира, которые навсегда просияли в «Божественной комедии». Таким образом, первое «чудо» русской культуры – ее почти молниеносное созревание – требует объяснения, которое должно помочь и пониманию ее основ.
По сравнению с петровской и послепетровской Россией древняя Русь поражает своим «молчанием». Но, как писал один историк древней Руси, за века молчания многое было передумано, пережито и перечувствовано. Иначе говоря, та удивительная культура, которая так быстро зародилась в еще не отстроенном, почти только намеченном еще Петербурге и начала из него свое распространение по всей необъятной стране, не возникла «из ничего», на пустом месте: такого чуда не бывает.
И не прав, тысячу раз не прав был Чаадаев, когда он говорил о русской истории как о белом листе бумаги, на котором ничего не написано. Да и сам Чаадаев это знал и сказал об этом в последних своих «Философических письмах». В том-то и всё дело, что если в древней Руси не было культуры «словесной» (хотя, в известной степени, была и она), то был опыт, без которого нечего было бы и выражать.
Опыт этот не был создан, да и не мог быть создан, Петром Великим. Петровская реформа дала русской культуре, прежде всего, технику выражения, тот инструмент, без которого опыт остался бы опытом и не мог бы стать основой поразительной по своей глубине, по своему охвату культуры.
Это переводит нас к тому, что мы назвали вторым аспектом русского культурного чуда. Внешне может показаться, что петровский «инструмент» был инороден по отношению к опыту.
Действительно, Петр резко насаждал в России, в первую очередь, секулярную культуру западного образца, оторванную от ненавистной Петру теократической базы, основы древней Руси.
Остриженные и бритые бояре, танцующие на ассамблеях западные менуэты, могли казаться – и казались – символом безнадежного отрыва России от своего первоначального опыта, от своей изначальной традиции. [Этой традиции, казалось, суждено было скрыться в апокалипсическом испуге в дремучие леса, быть обреченной на умирание.][1] Искалеченный иностранными словами язык, наряженное по-иноземному общество, перестроенное по-западному государство – всё это, казалось, означало перебой, обрыв, внутреннее самоотречение.
Но вот один из парадоксов русской культуры: на деле это оказалось не так. В конечном итоге будто бы навязанный Петром России чужой инструмент не только смог выразить ее сокровенный опыт, но сам стал неотрывной частью этого опыта, а тем самым стал своим, родным, не чужим.
Это, в свою очередь, объясняет третье «чудо» русской культуры: ее дар «всемирной отзывчивости». Если культура эта смогла оказаться синтезом того, что принято называть Западом и Востоком, то это только потому, что на последней глубине опыт древней Руси был частью общеевропейского, общехристианского опыта. Опыта, который, в силу исторических причин, на время оказался оторванным от западного, но по самой своей природе был опытом универсальным.
В том лучшем, что было в ней, в своей мечте, в своем видении мира древняя Русь жила вселенским, всемирным, а не провинциальным замыслом. Этот замысел она восприняла от Византии, и он стал ее плотью и кровью. Даже отъединяясь от Запада, уходя в свою скорлупу, древняя Русь не забывала этого всемирного вдохновения своей веры и не отрекалась от него. А это означает, что отъединение ее было неестественным, ненормальным и, главное, калечащим русское сознание.
Все перебои и кризисы московского периода нашей истории – от искусственности и ненормальности того занавеса, которым Москва – от испуга, от комплекса неполноценности и по другим причинам – пыталась отрезать себя от внешнего мира.
Тем самым получается, что, прорубая пресловутое «окно в Европу», Петр Великий не разрушал, а восстанавливал, хотя бы грубо и насильно, ту взаимную связь и зависимость, вне которых России духовно грозили удушение и склероз. Только связь с миром могла дать древнерусскому опыту, древнерусской мечте ее подлинный «контекст», возможность выражения и воплощения.
Поэтому в русской культуре Поль Валери и узнал свою культуру, а не чужеземную и загадочную экзотику. Так объясняется то, что Поль Валери назвал «чудом». Первый аспект этого чуда – необычайная быстрота созревания – означает, что опыт, воплотившийся в чуде русской культуры, не только был, существовал до ее развития, но и что он уже достиг той глубины, той внутренней зрелости, которой нужен был только толчок, свет, чтобы он мог найти свое воплощение.
Уже державинские оды были написаны, так сказать, на языке всемирном, и вместе с тем они были воплощением торжественности и радости, присущих всему тому, чем на последней глубине, со дня своего крещения, жила древняя Русь.
Своего высшего выражения это воплощение достигло, конечно, в творчестве Пушкина. Он – и об этом мы еще будем говорить – первый в новой послепетровской культуре до конца осознал и почувствовал тот опыт, которому суждено было, при всём своем западном обличье, стать питательным источником русского творчества.
Подражатель Шенье и Байрона, Пушкин стал и первой вечной любовью России, примирителем ее с ее собственной сложной судьбой.
Тут, у Пушкина, есть полное объяснение второго аспекта русского культурного «чуда»: западный культурный «ключ», «инструмент» открыл давно и плотно закрытую дверь.
И язык петровских «реляций», преображенный Пушкиным, стал языком национальным, единственным, на котором стало можно выражать всё: и мистическую глубину древнерусского опыта, и его природу; этот язык стал орудием именно синтеза, гармонии, воссоединения давно разделенного христианского человечества.
Всё это не значит, что русская культура XIX века есть одна беспримерная удача. Напротив, в следующей же беседе нам придется говорить о ее взрыве уже в другом, по существу трагическом смысле. Но не будь этой удачи, не свети над ней солнце Пушкина, то и о трагедии ее нельзя было бы говорить.
В том-то и парадокс русской культуры, что она навсегда осталась отмеченной, с одной стороны, несомненной своей удачей, а с другой – вечным сомнением в самой природе или «нужности» этой удачи. Оправдав до конца культурную революцию Петра, явив всему миру свое признание, свое «чудо», Россия почти сразу как бы задумалась над тем, нужна ли была эта удача, стоила ли игра свеч. [И из этого вопрошания, из этого сомнения и произошел этот второй «взрыв», наполнивший русскую культуру своеобразным взрывчатым веществом.
На это тоже намекал Поль Валери, называя русскую культуру чудом.] Об этом мы будем говорить в следующих наших беседах об основах русской культуры.
Беседа 8. «Взрыв» русского культурного самосознания в XIX веке (2)
В истории европейской культуры классицизм принято противопоставлять романтизму и другим последовавшим за романтизмом и возникшим из него школам и направлениям. В отношении русской культуры делать такое противопоставление было бы более сложно, так как развитие ее, как мы уже говорили, происходило иначе и другими темпами, чем развитие западноевропейской культуры.
В слово «классицизм» можно вкладывать различное содержание. Одно из них (его мы и примем для этой нашей беседы) состоит в восприятии определенного периода по отношению к другим периодам как нормативного: как мерило, которым можно мерить и оценивать разнообразные проявления данной культуры. И нужно ли доказывать, что таким мерилом, такой классической нормой в отношении русской культуры был и остается Пушкин? Ему и приходится противопоставлять, мерить им другие явления этой культуры.
«Пушкин – это наше всё» – мы привыкли к такого рода формулам, и Пушкин для нас так очевидно – вершина русской классики, что мы даже редко задумываемся, что же это за «всё», выражением и воплощением чего является Пушкин. Пушкина одинаково признали своим «правые» и «левые», задолго до революции, консерваторы и либералы, а после революции – и сторонники ее, и ее противники.
Все ссылаются на Пушкина, все считают его выразителем своего мироощущения, всем он, очевидно, в равной мере близок, понятен и дорог, и с этой точки зрения ни один другой русский писатель равняться с ним не может. Это делает Пушкина действительно основой и мерилом русской культуры.
Но это же требует и усилия понять: что же это за явление, почему Пушкин возвышается над всеми русскими привычными разделениями и страстями? Потому ли, что консерватор находит в его творчестве элементы консерватизма, защиту царского самодержавия, воспевание славы и величия империи? Потому ли, что либерал, а потом и революционер находит у него славословие свободы и осуждение тирании? С некоторых пор делаются даже попытки включить Пушкина в искания и весь мир русской религиозной мысли [, – по-видимому, нет конца этому «присваиванию» Пушкина].
Но если бы это было только так, если бы каждый в Пушкине любил только свое, тó, что отвечает данному вкусу и данной идеологии, этого определенно не было бы достаточно, чтобы сделать Пушкина именно основой, символом, мерилом, классическим сердцем русской культуры. «Тайну» Пушкина, о которой говорил Достоевский и разгадывать которую он призывал русских людей, приходится искать глубже. И именно эта «тайна» стоит в центре всей сложной диалектики русского культурного самосознания, одинаково и его «взрывов», и достижений.
О гармоническом, моцартовском гении Пушкина говорилось много. Но что, собственно, подразумевается под этим? Если это относится к литературному гению Пушкина, к внутренней уравновешенности его творчества, к отсутствию в нем крайностей, преувеличений, то такое определение примерно с тем же успехом приложимо и к другим русским писателям, если судить о них именно, как о писателях. Первые главы «Мертвых душ», с точки зрения экономии средств, выдержанности и умения этими средствами пользоваться, тоже классика, тоже гармония.
С другой стороны, есть у Пушкина и некий «ночной» лик – сумасшествие Евгения в «Медном всаднике», есть – до Гоголя, до Достоевского – страшный образ Петербурга, есть как бы в зародыше всё то, из чего позднее появился призрачный и страшный мир тех же Гоголя и Достоевского, а за ними – русских символистов и декадентов. Таким образом, ни пушкинское мироощущение само по себе, ни его эклектическая идеология, ни его литературный талант, как бы огромен он ни был, не являются еще разгадкой «тайны» Пушкина, его исключительного, единственного места в русской культуре. Разгадку эту, вероятно, надо искать в чем-то другом. В чем же именно?
Упрощенно на этот вопрос можно ответить так: Пушкин был, может быть, единственным великим русским писателем, который не усомнился в «нужности» культуры и не искал ни оправданий ее, ни обвинений. Он не был подвержен тому разъедающему, глубинному сомнению, которое вошло в нашу культуру сразу же после его смерти. Попробуем разъяснить и уточнить это определение.
Конечно, и до Пушкина, и после Пушкина в России были писатели, которые не сомневались ни в себе и ни в чем другом и добросовестно писали стихи, романы и другие литературные произведения. Например, давно забытый Боборыкин, говорят, однажды сказал Толстому, посетовавшему, что ему не пишется: «А я, наоборот, пишу много и хорошо».
Но разница между Боборыкиным и Пушкиным (само это сопоставление уже смешно) не только в том, что Пушкин был гений, а Боборыкин – посредственность, а еще и в том, что Пушкин отлично знал и сознавал границы культуры, о которых Боборыкин не имел понятия.
Иначе говоря, принятие Пушкиным культуры и творчество в ней до конца и всерьез было плодом не святого неведения, как у Боборыкина, а сознательного и зрячего знания и понимания. И классицизм, с этой точки зрения, можно определить как прежде всего знание искусством, творчеством, культурой своих границ и даже своей ограниченности.
Классицизм, так сказать, по самой своей природе скромен, так как творцы его знают, что искусство не может заменить ни религию, ни политику, ни другие области и что оно есть сфера человеческой деятельности, – сфера, исполняющая свою функцию как раз в ту меру, в какую она не претендует ни заменять другие сферы, ни пытаться сливать их с собой.
Пушкин никогда не мог бы сказать так, как сказал Брюсов: что, «быть может, всё в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов». С другой стороны, вряд ли он понял бы и одобрил то, что Гоголь во имя религии сжег часть рукописи «Мертвых душ».
Вместе с тем у Пушкина было очень высокое представление о поэте: «Ты царь, живи один…», «Ты сам свой высший суд…», «Глаголом жги сердца людей». Пушкин сознавал и пророческое, и религиозное, и политическое «служение» искусства, он был далек от какой бы то ни было теории «искусства для искусства» или же ухода поэта в башню из слоновой кости; но он всегда твердо знал, что исполнить все эти «служения» искусство может только будучи и оставаясь самим собой. А это значит – подчиняясь своим собственным и непреложным законам, не претендуя ни на какое «самозванство» в областях, к нему не относящихся.
Всей своей жизнью, всем своим творчеством Пушкин словно предложил русской культуре быть, прежде всего и превыше всего, самой собой, но тем самым и исполнять свое служение России. Но понятие «быть самой собой» для Пушкина включало в себя не только техническое совершенство, не только писание «много и хорошо», по-боборыкински, а, конечно, и воплощение того опыта России, о котором мы говорили в предыдущей беседе. Можно сказать даже больше: воплощение самой России. Ибо функция культуры и есть прежде всего функция воплощения того, что иначе осталось бы невоплощенным или недовоплощенным.
Может быть, никто так остро, так ясно, как именно Пушкин, не осознал невоплощенность России, ее опыта, ее «самосознания», а также и задачи русской культуры как прежде всего их «воплощения». В набросках Пушкина, в его записях, дневниках можно проследить как бы целую программу создания национальной культуры, и творчество его является, вне всякого сомнения, первым целостным «воплощением» России – не частичным, а именно целостным. Он первый словно увидел ее всю, тогда как до него и после него ее видели, любили, утверждали и отрицали «по частям», следуя частным, отдельным идеологиям и увлечениям. И Пушкин не только увидел и почувствовал всю Россию; он увидел и указал в этом «всём» и соотношение отдельных частей, их внутреннюю иерархию, их место.
Пушкин – наше «всё», потому что в известном смысле он «создал» Россию, которая, конечно, существовала и до него, но которую он воплотил в своем творчестве и тем самым как бы оформил и нам явил, показал.
Пушкин видел и хрупкость этого «целого», подверженность его действию стихий, некоей соприродной России метели; чувствовал он ее и как бы вздернутой на дыбы над бездной, и он твердо знал, что эту бездну необходимо заполнить культурой, которая только и может сохранить «целое» от распада и растворения в стихии. В его «целой» России оказалось место и древней Руси, и петровской империи, и Западу, и Востоку, и Татьяне Лариной, и Савельичу из «Капитанской дочки», и государству, и свободе, и соборности усилия, и правам личности, и прошлому, и настоящему, и будущему. И вертикальному религиозному измерению, и горизонтальному – культурно-историческому.
И важно понять и почувствовать, что такой «целой» и «целостной» России не было ни до него, ни после него. Пушкин один, во всей истории русской культуры, целиком принимал и утверждал ее, в нем ничего нет от отрицания и отвержения культуры, чем часто старается определять себя русский человек.
Поэтому Пушкин, его творчество и есть «воплощение» основ русской культуры, поэтому и измеряется она изнутри Пушкиным, хотя у нас были писатели и творцы даже «глубже» его, были пророки и вещатели, обитатели как неба, так и преисподней. Трагедия же русской культуры, трагедия в греческом, изначальном смысле этого слова – в том, что она в этой «целостности» за Пушкиным не последовала. И не последовала прежде всего как раз в его «классицизме». Пушкин хотел строить культуру, веря и зная, что в ней воплощается Россия. Русская культура после Пушкина захотела строить саму жизнь, спасение души и мира, обновление общества… В этом, повторяем, и ее величие, и ее трагедия.
Беседа 9. «Взрыв» русского культурного самосознания в XIX веке (3)
В предыдущей беседе мы говорили о Пушкине как носителе классической нормы нашей культуры и, тем самым, выразителе, так сказать, в чистом виде ее основы. «Нормативность» пушкинского творчества, говорили мы, заключается прежде всего в ясном осознании Пушкиным границ и назначения культуры, а отсюда и в ясном понимании им национального призвания культуры. Мы закончили нашу беседу указанием на трагедию русской культуры, состоявшую в постепенном отказе ее от этого пушкинского понимания цели и сущности культуры. Попробуем теперь развить и обосновать это утверждение более подробно.
Тридцатые годы прошлого века ознаменовались в России, как известно, бурным пробуждением мысли. Непосредственная встреча с Западной Европой во время наполеоновских войн, наплыв восторженных русских студентов в западные университеты, безостановочный приток в Россию западных книг и представителей всевозможных философских, религиозных, общественных и политических движений, – всё это привело к некоему умственному взрыву и прежде всего к усиленной рефлексии, анализированию самих себя, судьбы России в мировой истории, ее прошлого, настоящего и будущего.
В условиях политической реакции, наступившей после восстания декабристов и воцарения Николая I, суждено было этой рефлексии, так сказать, вариться в собственном соку, проявляться больше в горячих спорах, а не в реальной деятельности. А в таких условиях, без возможности применить свои взгляды на практике, проводить их в жизнь, критика естественно развивается за счет возможного развития положительных, конструктивных идей. И вот, можно сказать, что если Пушкин был строителем, в глубоком смысле этого слова, строителем прежде всего культуры, то следующее поколение оказалось поколением преимущественно критическим.
Едва успев сложиться, наше культурное самосознание сразу же стало объектом разъедающего анализа и самокритики – по выражению Тургенева, было «заедено рефлексией». Пушкин ясно видел и сознавал нужды России и в первую очередь потребность в культурном строительстве, но после Пушкина стали видеть не нужды России, а проблему России, так что культура ее тоже оказалась проблемой, стала проблематичной.
Пушкин, потому что он думал о нуждах России, исходил из реальности, а не из отвлеченных идеологий, он видел Россию как целое, обнимал своей мыслью и сознанием всё разнообразие ее жизни. Поколение же критиков, критиковавшее обычно с отвлеченных позиций, да еще большей частью продиктованных западными идеологиями, сводило Россию к той или иной части, одному аспекту ее жизни и заменяло ими целое.
О Пушкине нельзя сказать, что он писал или творил с какой-то особой «точки зрения»; его творчество, если воспользоваться избитой формулой, постольку же отражает действительность, поскольку и преображает ее. После Пушкина в русском культурном самосознании воцарилась точка зрения как условие и предпосылка мысли и творчества.
Прочтя всего Пушкина, можно получить некое целостное представление о России, о светлых и темных сторонах ее жизни, о соотношении в ней различных элементов, можно увидеть ее именно как целое. Но этого, в сущности, уже нельзя сказать ни об одном другом русском писателе, исключая, пожалуй, только Толстого, о котором надо говорить особо. Все другие писатели так или иначе писали о России; пожалуй, они были даже более сознательно обращены к ней, чем Пушкин, но у Пушкина Россия запечатлена живая и целая, а у других писателей всегда только какая-то одна ее часть, одно измерение, по которым целое восстановить не так-то легко. И это произошло, конечно, не от оскудения талантов – Россия не оскудевает ими, а от распада той целостности, того «классицизма», которые были даны нам в творчестве Пушкина.
Объектом рефлексии и критики, начиная с 1830-х годов, в равной мере были и Россия, и Европа, Россия и Запад. Русская культурная мысль как бы осознавала, с одной стороны, пронизанность русской культуры не только западными влияниями, но и самим Западом, его духовным строем и духом, а с другой стороны, она отдавала себе отчет в глубоком отличии России от Запада, в какой-то коренной самобытности ее и несводимости только к Западу. Эта тема была остро поставлена уже Чаадаевым в его знаменитых «Философических письмах», и с тех пор она стала как бы судьбой русского сознания, темой, поляризующей русскую культуру изнутри.
Знаменитое столкновение между славянофилами и западниками было только одним из проявлений этой поляризации, одним ее срезом. Распад – не русской культуры, конечно, а культурного «сознания» – совершался гораздо глубже, в каких-то последних пластах, потому что глубинный вопрос, который поставило с тех пор перед собой русское культурное сознание, был вопрос о том, что такое вообще культура и во имя чего она существует. На Западе этот вопрос был поставлен немецкой идеалистической философией, но там он возник в результате многовекового и сложного культурного развития, как вопрос, завершающий данный отрезок этого развития и, так сказать, как вопрос синтезирующий. Это был вопрос о смысле истории и накопленных в ней духовных ценностей.
В то же время русское культурное самосознание, в момент появления у него этого вопроса, стояло по существу перед совсем другого рода задачей, которую указал ему Пушкин: усвоить и воплотить при помощи западной культурной «техники» всё многообразие, всю сложность, все противоречия русского опыта или, еще проще, самой России.
Пушкин ни минуты не сомневался в принадлежности России к «великому семейству рода человеческого», но не сомневался он и в самобытности России, в необходимости и возможности построить в ней национальную культуру, которая была бы тем более национальной, чем меньше она будет обособлена от духовного и культурного единства Европы. Пушкин не сомневался в этом прежде всего потому, что для него не существовало никакой «проблемы культуры», никакой проблемы ее осмысления и оправдания: перед ним был только вопрос о наилучшем, наиболее подходящем для России способе создания культуры.
И вот от этой пушкинской «простоты» постановки вопроса русское культурное самосознание после Пушкина отказалось под влиянием воспринятой им западной проблематики культуры и истории. Оно заболело «мировой скорбью», которая была Пушкину полностью чужда, и стало искать разрешения мировых проблем, и этому своему исканию оно подчинило и само понятие культуры.
Безоговорочное принятие западных идеологий, с одной стороны, а с другой – какое-то неистовое преклонение перед «народом» в равной мере свидетельствовали о болезненном надрыве, об утере русским культурным самосознанием трезвости и перспективы. Пушкин, например, знал, что он многим обязан своей няне Арине Родионовне, но он вряд ли решился бы возвести няню в символ какой-то метафизической тайны и мудрости; он вряд ли понял бы увлечение славянофилов армяками и лаптями. А это увлечение, между прочим, привело умнейшего Хомякова к длинной переписке о том, как героически явился он на какой-то петербургский прием в русской народной одежде, а не во фраке.
Пушкин знал необходимость для России усвоения западной культуры, но во всём его творчестве нет ни одного намека на какое-либо раболепство перед нею. Напротив, он первый с усмешкой указал на «восторженную речь» Ленского и его бесчисленных потомков. Когда Чаадаев писал свои «Философические письма», в которых заявил, что Россия – это белый лист, на котором ничего не написано, уже были созданы лучшие произведения Пушкина, Баратынского, Дельвига, Одоевского. Откуда же тогда взялся «белый лист»? Там, где Пушкин видел возможность бесконечной деятельности и созидания, там Чаадаев, напившийся из источника западных вод, не видел ничего. Почему? Очевидно потому, что видеть ему мешали надетые раз и навсегда западные очки, нарушившие в его сознании целостность видения.
Таким образом, боготворение Пушкина, признание его безоговорочной основой русской культуры парадоксально совпало у нас с внутренним от Пушкина же отречением. Отречение это выразилось в том, что над русской культурой надолго воцарились «идеологии», множество идеологий, борющихся одна с другой, каждая из которых провозглашает свою единственность и абсолютность. Жизненной драмой Пушкина были только внешние помехи его творчеству: придирчивость цензуры, бессмысленность светской жизни, оскорбление его человеческого достоинства. В отношении собственно творчества никаких драм у Пушкина не возникало. Но после него можно говорить о творческой драме почти у каждого русского писателя, начиная с Гоголя и кончая Толстым, Блоком и многими другими. Но драма эта уже не внешняя: она возникала и разрасталась в самом творческом сознании писателя.
Русская литература, а за ней и вся русская культура, после Пушкина стала историей небывалых удач, но вместе с ними и трагических крушений и противоречий. Она жила как бы взрывами, взлетами больше, чем преемственностью, и отказов и разрывов оказывается в ней больше, чем круговой поруки и связанности общим делом.
И, конечно, самым поразительным явлением внутри этой культуры следует признать парадоксальное наличие и повторение в ней – отречения от самой культуры, отрицание культуры во имя других, признаваемых абсолютными ценностей. Гоголь сжег вторую часть «Мертвых душ» во имя религии; Писарев и Добролюбов отрицали культуру во имя абсолютного переустройства мира; Толстой – во имя нравственности; по существу всё это было отрицанием во имя той или иной утопии. Проследить эти отречения необходимо, так как в них выявляется своеобразная диалектика русского самосознания, вплоть до наших дней.
[1] Здесь и далее текст, вычеркнутый в машинописи, помещен в квадратные скобки.
Читайте также другие лекции:
- Что сделал с русской культурой утопизм
- Судьба России и ее культуры почти всегда решалась на верхах
- Истоки максимализма в русской культуре