
Отрывок из книги Ксении Кривошеиной «Оттаявшее время, или Искушение свободой», которая только что вышла в издательстве «Алетейя». В своих воспоминаниях автор рассказывает о людях, с которыми свела ее жизнь. Некоторые из них прошли советскую «закалку», кто-то был арестован и выслан на Запад, а кто-то остался в России. На страницах книги вы встретите пианиста Святослава Рихтера и композитора Андрея Волконского, художников Николая Акимова, Натана Альтмана и Оскара Рабина, поэтов Анну Ахматову и Иосифа Бродского, известных и малоизвестных деятелей русской диаспоры во Франции, Швейцарии и Америке.
Пройдет много лет, и найдутся историки и психологи, которые сумеют определить феномен, начавшийся с русским человеком в середине шестидесятых годов. В журналах «Молодая гвардия», «Октябрь», «Новый мир» и просто отдельными книгами появились первые писатели-«деревенщики». Их произведения были встречены с нескрываемым энтузиазмом и восторгом. Изголодавшаяся по живому слову интеллигенция, инженерия, физики-лирики, художники и просто читающий люд восприняли это явление как кислородный глоток.
Разочарованность в ближайшие годы построить «социализм в одной отдельно взятой стране», отчаяние полуголодного народа, как в деревнях, так и в городах, «догнать и перегнать Америку» и невозможность реализовать себя в этой стройке привели к странному явлению — советский человек потянулся из города в деревню. Василь Быков, Белов, Шукшин, Астафьев — породили целое движение, «вхождение в народ» или бег интеллигенции в природу. Тогда это было своеобразным утопическим и психоаналитическим проявлением «совка», достигшим сейчас, в двадцать первом веке, масштабов глобальных.
Совинтеллигенция находила настоящую цель в жизни, скупая по дешевке дома в деревнях, строя и восстанавливая их, парясь, как «мужики», в бане, копая огороды, доя коров, разводя кроликов, соля, маринуя и «закручивая банки» на зиму, а потом храня выкопанную картошку на своих городских балконах.
Чем дальше от города покупался дом, тем романтичнее было пребывание в нем, хотя частенько там не было даже электричества, а добираться в глухомань приходилось на попутках и с пьяными в дребодан шоферюгами.
Русскому поколению, родившемуся после конца СССР, трудно себе вообразить ту степень зависимости и закабаленности их родителей от профкомов, КПСС, ОВИРов, ЖЭКов (прописки), окружающих стукачей и просто завистников. Страх, впитанный с молоком матери, сейчас дает свои плоды, русский человек с трудом приучается мыслить самостоятельно, а порой и не хочет думать, ведь за него думали в течение восьмидесяти лет.
Стоял разгар лета, и я решила не ждать в городе извещения из «Отдела виз и регистраций» о поездке в Швейцарию, а продолжить свои поиски покупки деревенского дома. Моя мечта скрыться в деревенском углу была по тем временам не оригинальна. Я планировала, что после возвращения из моего «турне» (если таковое состоится) мы с Иваном могли бы обосноваться в такой деревне. Отец, который вечно что-то строил и не достраивал, продал свой дом-башню на реке Мсте, но в деревне рядом с красивым названием Морозовичи жила дорогая моему сердцу женщина. Звали эту простую, из раскулаченных старообрядцев, новгородскую крестьянку Мария Михайловна.
Ей было под шестьдесят, и именно она оказалась моей крестной матерью. Она была набожна и очень строга, сумела сохранить в душе то, что называется страх Божий. Не было в ней ханжества и нравоучения, но сердечное отношение к развалившейся нашей семье вызывало в ней чувство обиды на моего отца. «Срам какой, неужто Иваныч грех на душу возьмет, разведется с Лидой (моя мама). Бога он не боится».
Изработанность выносливого от природы тела не убила в ней молодости душевной. В свои шестьдесят лет она могла часами косить, копать огород, доить корову и ходить за скотиной. Корову подарила ей я, радости Машиной не было границ, назвала она ее Дочей. Вот уж, как ни старались Советы убить крестьянство, а оно и через асфальт, будто травка, прорастало. Так и в Маше малая радость, которую я могла ей доставить через покупку скотины, кроликов, свиньи, вырастала в праздник. Как она за ними ходила, вела с ними разговоры, чистила клетки, мыла щетками поросят; каждому было присвоено имя.
Пенсию Маша не получала, только дочь посылала ей кое-какие денежные переводы, но и это было нерегулярно. Наша встреча и настоящая семейная дружба стала еще сильнее после моего крещения.
Мы приехали к Маше с Иваном и окунулись в покой и уют Морозовичей. Дом стоял прямо на реке, а Мста с одного берега высокая, а другой берег пониже. Лес вокруг — с настоящими борами, нехоженый, а в тех местах, как известно, ни татаро-монголов, ни немцев не было, и совсем рядом курганные сопки, захоронения. В деревне было с десяток домов, в них только старушки, к двум из них приезжали на лето родственники. Один из таких домиков, что был рядом с Машиным, я и наладилась приобрести.
Конечно, я рассказала Марии Михайловне о своем намечаемом путешествии и даже попросила ее, в случае если я поеду в августе, приютить на лето Ивана и мою маму.
Для нее слова «Швейцария», «Женева» были в равной степени не представляемым кусочком на планете, как и «Ленинград», «Москва».
Она жила без телевизора, единственным источником цивилизации была радиоточка, которая вещала не всегда, а когда было электричество. В деревню раз в две недели и только летом привозили кино, на которое сходилось из соседних деревень трезвое население, состоящее из старушек и женщин с детьми. Редкие мужчины предпочитали ждать открытия сельпо, в котором на протяжении десятилетий был все тот же набор консервов, соли, сахара, слипшихся леденцов, хлеба и водки. Раз в месяц приезжала «автолавка», прямо с кузова продавали хлеб и жуткий портвейн 777, в народе его прозвали «три топора».
Как-то, прислушавшись к разговорам в очереди перед открытием деревенского магазина, я поняла, что великий русский язык состоит только из матерщины. Детки, которые возились в пыли, ожидая, пока их папы купят бутылку водки, а им — комок слипшихся леденцов в кульке из толстой серой бумаги, тоже изъяснялись не на языке Пушкина. Моя Маша все это осуждала, в магазин ходила, но в очереди с разговорами не простаивала, а в кино тем паче ей было ходить «заказано». Соблазну и искушению греховному она себя старалась не подвергать. Во многом мне она напоминала мою нянечку, а то, что Маша стала моей крестной матерью, связывало нас троих особенно.
К моей поездке за границу она отнеслась как бы равнодушно, но почему-то стала отговаривать покупать дом. Причем все доводы, ею приводимые, и отговорки были для меня не убедительными, а чаще всего она возвращалась к своим любимым животным и что с ними будет, если она вдруг умрет. Я совершенно не могла понять, почему именно разговоры о болезни и смерти стали так ее волновать. Может быть, она больна, скрывает от меня что-то, не хочет зря волновать перед поездкой? В общем, я стала задаваться вопросами. Однажды вечером, сидя после ужина за самоваром, она как-то странно на меня посмотрела и сказала: «Молиться твоему Ангелу-Хранителю буду. Надо, чтоб помог он тебе из кругов темных выйти. Если не я, то кто за тебя еще помолится».
А и вправду, помолиться обо мне было некому! Только сама я в ночи неумело просила Пресвятую Богородицу простить и защитить меня. Чувство настоящей веры, благодати Божией и церковность пришли ко мне гораздо позже.
Но прошло еще несколько дней после нашего вечернего чаепития, и мне приснился сон, значения которого я совершенно не могла понять, и, видимо, оттого, что он был «вещим», он мне запомнился, а толкование его пришло позже. Прежде чем рассказать сон, хочу сказать, что со дня моего крещения я носила, не снимая, простой медный крестильный крестик, подарок Маши. А сон был такой. Будто сижу я у окошка в Машиной избе, на столе кипит самовар, и чай мы пить собрались. За столом сидят Маша, мой отец и я. За окошком раскрытым виднеется садик с тремя яблонями, огород, и по всему понятно, что стоит теплый летний вечер. А на маленькой лужайке перед окном будто холмик травяной возвышается. Тут Маша мне и говорит: «Ксенюшка, ты свой крест сними и брось под холмик».
Я покорно цепочку отстегнула и бросила крестик за окно. Гляжу, а цепочка с крестом моим как бы ожила и змейкой поползла по холмику вверх. Медленно ползет, а я неотрывно на нее смотрю и со страхом думаю — только бы она, когда до вершины доберется, не стала бы по другой стороне холма спускаться. И, что еще страшнее, если упадет со склона, не удержится, тогда «конец». А чему конец? Во сне я не осознавала, но чувствовала, что тогда несчастье приключится. И стала во сне горячо молиться! Посмотрела я на Машу, вижу, она с улыбкой на отца моего смотрит, а он как бы безразличен к происходящему, занят чем-то совсем другим, вроде мастерит за столом что-то. Присмотрелась я и увидела, что в руках у него рыболовная снасть, он ее чинит, дырки в ней латает, страшно торопится успеть, все за окошко поглядывает на мой крестик ползущий и приговаривает: «Раз-два, раз-два…»
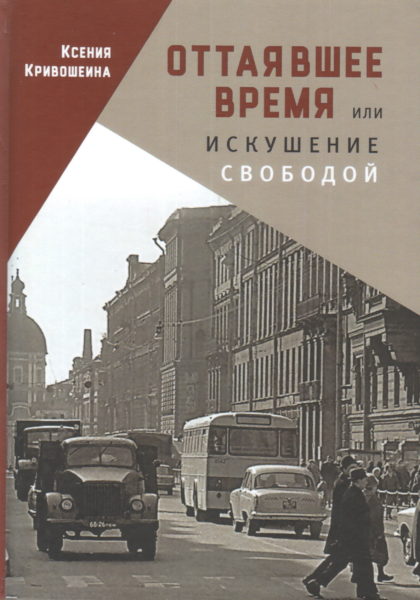 Цепочка моя до вершины холмика добралась и одним концом свесилась по отлогости на другую сторону… сейчас сорвется, я глаза зажмурила от страха. Слышу, как Маша мне говорит: «Не бойся, посмотри». Мне вдруг так спокойно стало на душе, глянула я за окошко и вижу, что застыл мой крестик с цепочкой на противоположной отлогости, будто врос, а трава на этом склоне совсем другого цвета. Весь страх у меня прошел, и голос Машин, будто издалека: «Не успеют, не упадешь, не заманят…»
Цепочка моя до вершины холмика добралась и одним концом свесилась по отлогости на другую сторону… сейчас сорвется, я глаза зажмурила от страха. Слышу, как Маша мне говорит: «Не бойся, посмотри». Мне вдруг так спокойно стало на душе, глянула я за окошко и вижу, что застыл мой крестик с цепочкой на противоположной отлогости, будто врос, а трава на этом склоне совсем другого цвета. Весь страх у меня прошел, и голос Машин, будто издалека: «Не успеют, не упадешь, не заманят…»
С этим я и проснулась. Сон был настолько постановочным, что мог бы сойти за реальный бред или галлюциноз, что-то он означал. Я не успела рассказать его Маше, так как в это утро местный почтальон на велосипеде привез мне толстый конверт. Моя мама из Ленинграда пересылала мне в Морозовичи почту. Я разорвала пакет, из-под газет и писем вылезла желтенькая казенная открытка со словами «Вам надлежит зайти… имея при себе… и т. д. …в центральный ОВИР». Назначенная в повестке дата была завтра… Я быстро собралась, попросила Машу «попасти» Ивана до приезда моей мамы и сказала, что буду держать ее в курсе событий. Мы с ней прощались ненадолго, осенью я должна была вернуться и оформить покупку дома. И уже в поезде, подъезжая к Ленинграду, я подумала, как жаль, что Маша не узнала о моем сне, она бы мне его растолковала.

