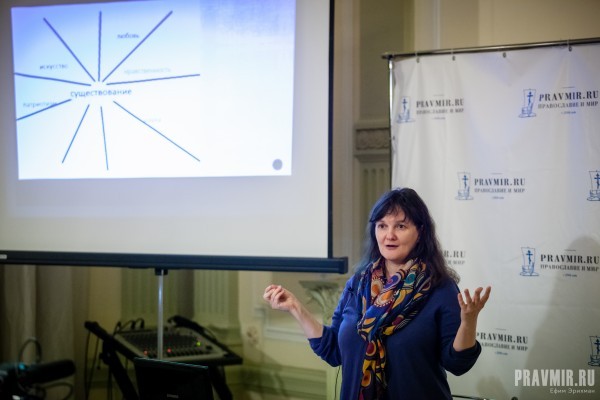Корней Чуковский: о пользе бесполезного – лекция Ирины Лукьяновой (+видео)
Ирина Лукьянова – литературовед, журналист, преподаватель литературы, автор монографии «Корней Чуковский», вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей».
Должна сказать, что на мысли поговорить о пользе бесполезного меня навели вечно продолжающиеся дискуссии о том, должна ли от литературы быть хоть какая-нибудь польза, должна ли литература воспитывать.
Сейчас как раз по этому поводу идут очень серьезные баталии между сторонниками идеи преподавания литературы как средства воспитания – духовно-нравственного воспитания, патриотического воспитания и так далее, – и сторонниками преподавания литературы как радости, как счастья, как возможности получать удовольствие от чтения.
Поскольку эти споры не увядают на протяжении, по моим подсчетам, на протяжении последних 150 лет, а, может быть, и больше – как раз это очень хороший повод вернуться к дискуссии о том, должно ли искусство быть полезным.
Мы видим, что начата она не вчера. Поучаствовали в ней довольно важные и значительные для русской и не только для русской культуры люди. Вопрос о том, должно ли искусство служить народу или оно должно быть искусством ради искусства и служить прекрасному, очень волновал общественное сознание в середине XIX века, но, на удивление, продолжает волновать и сейчас. На протяжении практически всего XX века в нашей стране искусство и литература воспринимались в первую очередь как «могучее средство коммунистического воспитания», – это выдержка из газеты «Красный север» за 1949 год.
Не нашла я подходящую выдержку из сегодняшней газеты, но должна сказать, что несколько миллионов ссылок Яндекс дает по запросу «литература как средство духовно-нравственного воспитания», только «коммунистическое» поменяли на «духовно-нравственное», а также все примерно то же самое.
Так что предлагаю обратиться «К вечно юному вопросу» – так называлась статья, с которой совсем молоденький, девятнадцатилетний Корней Иванович Чуковский вошел в журналистику. Это первый его текст, подписанный «Корней Чуковский». Этот псевдоним, как известно, он сделал из своей фамилии Корнейчуков.
Автор явился в редакцию «Одесских новостей», прикрывая огромную дыру на штанах большой книгой. Потом с гонорара купил себе на толкучке новые штаны. Статью редакция сопроводила примечанием, что это небезынтересное мнение молодого автора, взгляды юного Чуковского, хотя и претерпели некоторое даже не изменение, а уточнение, к «вечно юному вопросу» до сих пор имеют самое непосредственное отношение, а вопрос, видимо, так и останется вечно юным.
Статья опубликована в 1901 году в газете «Одесские новости», и это самая-самая первая статья Чуковского в прессе. Со временем стиль Чуковского поменялся. Статья написана еще очень тяжелым языком. Чуковский очень старается подражать такой глубокоуважаемой, тяжелой философской критике XIX века. Со временем он будет оттачивать свой стиль, работать над ним, в его статьях станет меньше рассуждений и больше парадоксов. Но пока это первый опыт человека, который всю свою сознательную жизнь вынашивал теорию, и, наконец, решил поделиться этой теорией с читателями.
Он начинает с того, что вопрос о форме и содержании искусства уже всем наскучил, потому что спор этот ведется все последние тридцать лет. Для нас прошло уже столетие с лишним – спор совсем давний. Почему же вопрос вечно юный? Должно ли искусство служить потребностям человека, воспитывать его, пропагандировать социальные перемены, звать его на бой, звать его изменить что-то в окружающей его жизни, или все-таки искусство самоцельно и абсолютно бесполезно, как сказал Оскар Уайльд? «Тридцать лет прошло со времени первых споров об этом на Руси, а мы все топчемся на месте», говорит Чуковский.
Если посмотреть, как мы топчемся на месте – то вот вам прошлогодний документ: концепция преподавания литературы, которая разрабатывалась под руководством члена Общественной палаты Павла Пожигайло, где утверждается, что главная цель преподавания литературы – это воспитание нравственно-ориентированной личности.
То есть все-таки вопрос остается, его до сих пор никто не решил, поэтому обратимся к точке зрения Чуковского. Вот как он строит свою систему доказательств. Он говорит, графически я представляю себе это так: вот существуют какие-то полезные дела, такие прямые линии, которые все сходятся в одной точке, в точке существования. Это линии: наука, любовь, нравственность, патриотизм – здесь те термины, которые перечислил Чуковский.
Линии, конечно, имеют какую-то цель – все это каким-то образом обслуживает существование человека. Вот если птица, например, поет, то для какой цели она поет? – для того чтобы размножаться. Скажите женщине, которая любит наряжаться, что наряжается она исключительно в целях продолжения рода и привлечения противоположного пола. «Нет, женщина наряжается, потому что она любит наряжаться», – говорит Чуковский. Значит, вот здесь, в этом центре ничего не кончается, значит, эти линии продолжаются куда-то дальше и начинают существовать как бы сами по себе, не нацеленные ни на что.
«На средства, – говорит Чуковский, – надо смотреть как на цель, и тогда цель будет достигнута». Абсолютное добро, истина, красота, справедливость, наука, патриотизм – все это полезные, нужные ошибки, заблуждения. Они, конечно, служат благу общества, они необходимы и полезны, но полезны именно постольку, поскольку они самоцельны, они самоценны, они сами по себе.
Я помню, в моем детстве на каком-то научном институте в нашем городе был огромный лозунг: «Цель науки – служение народу». Те, кто сидит в этом зале, если вы имеете отношение к науке, как бы вы определили цель науки?
– Познание.
– Познание, конечно. Цель науки – приращение знания, но не служение народу, не общественная польза. В процессе познания, самоцельного познания наука что-то узнает, из этого можно извлечь пользу. Из того, что открыла наука, впоследствии появятся трактора, космические корабли, новые сеялки и веялки, новые способы производства кислоты для народного хозяйства. Наука, разумеется, будет служить народу и народному хозяйству, но не в этом ее цель. Если она поставит себе задачей исключительно служение народу и прекратит поиск, то очень скоро пропадет сам смысл науки.
То же самое, наверное, относится и к патриотизму, смысл которого не в пользе, а в любви к родине; и к искусству, задача которого тоже не в обслуживании потребностей. Да, в конце концов, искусство действительно удовлетворяет какие-то потребности, но цель искусства не в этом, цель искусства – это самовыражение и служение прекрасному.
«Надо ставить себе непрагматические цели, – говорит Чуковский, – только тогда добьешься прагматических результатов». Он и в старости это повторял. Как я уже заявила в анонсе лекции, Валентин Берестов однажды изложил этот завет Чуковского так: «Пишите бескорыстно — за это больше платят». Чуковский приводил писателям и поэтам в пример чеховского портного, который не хочет шить зипуны, а хочет шить красивые мундиры и даже на свои деньги покупает материю, потому что он служит своему делу. Его даже бьют, но он продолжает гнуть свое. Будьте такими портными, говорит Чуковский, это и вашим заказчикам полезнее, в конечном итоге.
То, что ты делаешь с высшей целью служения прекрасному, в конце концов, оказывается более полезным, чем то, что ты делаешь, когда хочешь написать что-нибудь полезное. Иногда, когда смотришь на произведения детской литературы, например (о чем Чуковский тоже довольно много писал, но уже в другой период своей жизни). Иногда видно, что автор хочет быть практически полезным, что он ставит цель – воспитать в детях любовь к чистке зубов, например. И все произведение задумано именно с этой целью. Конечно, у Чуковского есть произведения, которые призывают детей к чистоте и к чистке зубов:
Рано, рано на рассвете
Умываются мышата,
и утята, и котята,
и жучки, и паучки…
Но сказать, что «Мойдодыр» был написан исключительно для того, чтобы нести в детские массы санитарно-гигиенические нормы – это значит, жестоко обидеть и произведение, и самого автора. Чуковский всю жизнь любил литературу беззаветно, и свое служение обществу представлял себе главным образом как служение литературе. Как раз в полном соответствии со своей теорией самоцельности и самоценности.
«Литература абсолютна, – говорил он, – нельзя делать ее служанкой тех или других человеческих потреб». «Зачем, – спрашивает Чуковский, – продолжать полезную линию, даже тогда, когда она заведомо бесполезна? Нет ли ему какой-нибудь пользы в том, что оно поддерживает эту бесполезность?» И приходит к выводу: «Всякая полезность совершается при личном осознании своей полной бесполезности».
Это имеет смысл помнить. Однажды коллега-учительница мне сказала: «Всю-то жизнь мы бьемся, как рыбы об лед». Вроде, казалось бы, самая полезная профессия, но полезность здесь действительно совершается при полном осознании своей бесполезности. Может быть, только тогда от нее и бывает какая-то польза.
Надо сказать, что все-таки эта теория, философская теория Чуковского была материалистической теорией. Чуковский учился на популярной во второй половине XIX века философской литературе. Он очень внимательно изучал западноевропейскую философию – в основном философию материалистическую. Для него все эти «полезные ошибки» – надстройка, существующая на определенном базисе, но очень полезная надстройка, прекрасная, без которой обходиться совершенно нельзя. Все эти полезные обманы – любовь, нравственность, наука, искусство – все они нужны обществу для того, чтобы двигаться к прекрасному будущему.
Но как раз с марксистами Чуковский очень серьезно полемизировал. Когда в 1906 году увидела свет книжка Плеханова «За двадцать лет», Чуковский откликнулся на нее статьей «Циферблат господина Бельтова», где первым делом написал, что у Бельтова (это псевдоним Плеханова) один-единственный критический инструмент – это марксометр – марксометр, которым он старательно замеряет содержание марксизма в том или ином произведении. «Бросьте на машину Некрасова – результаты получатся такие: Некрасов знает, что характеры людей складываются под влиянием окружающей среды»… «Ему известна первая догма экономического материализма, что «сознание народа определяется образом его жизни»»… «Он не верит в могущество идеальных стремлений русского народничества»… И вследствие этого удельный вес поэта будет объявлен очень высоким. Не то с г. Скабичевским … не потому, что у господин Скабичевского нет ни тени таланта, ни клочка дельных знаний – во всяком случае, не только поэтому. А потому что господин Скабичевский не имеет соответствующего миросозерцания и чуждается русских учеников».
Может быть, поэтому, кстати, Владимир Ильич Ленин потом в одной из своих работ сказал, что «Чуковский лягал марксизм». Это, кажется, единственный письменный отзыв Ленина о Чуковском – о том, что он «лягал марксизм». Для Чуковского марксометр, как прибор критический оценки, был совершенно немыслим, невыносим. Он всегда говорил: «Идеологии надо оценивать не по художественному что, а по художественному как, памятуя о том, что эстетика – единственный надежный критерий оценки произведения». Для него единственным критерием было – талантливо или бездарно. Он говорил о том, что писатели, в общем-то, делятся всего на два вида – талантливые и бездарные.
Когда он киевскому переводчику Александру Дейчу стал говорить, что направления, существующие в литературном мире – это только выдумка неучей и досужих ученых, а есть только два направления – талантливое и бездарное, что талантливый романтик дороже бездарного реалиста, а одаренный реалист куда нужнее, чем пустопорожний романтик – это было по тем временам так смело, что Дейч даже подумал, что Чуковский шутит.
А Чуковский даже о погоде отзывался – талантливый день или бездарный день, бездарная погода. Он всю жизнь придерживался идей, изложенных в статье «Циферблат господина Бельтова». Конечно, ему очень тяжело было совпадать здесь с советским официальным литературоведением – и особенно с некрасоведением.
Чуковский очень много занимался в советское время Некрасовым, и всякий раз у него возникали здесь жёсткие противоречия с литературоведением, которое трактовал Некрасова исключительно как певца горя народного и предтечу революции и современных марксистов. Чуковский старался рассказывать совершенно о другом – о том, какой Некрасов совершенно потрясающий новатор в стихе; как революционно не содержание его, а сам его стих; как нова форма; как он удивительно тонко умеет видеть детали, как подмечает «тончайшие паутинки, что, как иней к земле прилегли». Для него Некрасов именно этим дорог – он Некрасовым упивается.
Вообще, он способен был опьяняться стихами, как он сам о себе говорил. Одно из его детских воспоминаний – как он прогуливает гимназию, сидит в какой-то яме в одесском парке в туманный день, читает Овидия и радуется ему до слез. В 1925 году Чуковский попал на процесс растратчиков – он все интересовался, что же движет этими людьми, которые скрываются с огромными суммами казенных денег, – и увидел, что они тратят эти деньги на женщин, вино и карты. И страшно удивился: бедные, обокраденные души! «Неужели никто не сказал им, что Шекспир много слаще всякого вина?» Он писал о том, что опьяняется стихами Блока, что это действительно так прекрасно, что почти невыносимо.
(А вот, для сравнения, выдержка из интервью упомянутого Павла Пожигайло порталу «Правмир» про духовно-нравственное значение литературы:
«Некоторые говорят, а что, чтение «Евгения Онегина» – это не наслаждение? – Конечно, нет. Это великолепная совершеннейшая лирика, которую надо знать наизусть».
Надо знать. Почему? Потому что это полезно. Потому что у вас в голове должны быть образцы великолепной красивой, совершенной лирики – это польза. А опьяняться – нет, это что-то нехорошее, неправильное есть в этом опьянении).
Дальнейшим развитием темы стал цикл статей Чуковского в газете «Свободные мысли» – цикл статей, посвященных взаимодействию революции и литературы. Должна ли революция отражаться в литературе? Должна ли литература служить революции? Все это пока происходит на волне общественного подъема, вызванного первой русской революцией. И Чуковский, как всегда, здесь против течения. Он говорит здесь о том, что революционные стихи русских поэтов почему-то оказываются совершенно бездарными: «Я помню, помню, как жандармы // Ворвались полночью в мой дом // И вместе с запахом казармы // Внесли насилье и содом».
Как можно внести насилье и содом вместе с запахом? Он удивляется: почему, пока они пишут о звездах, писатели так талантливы, а как только начинают говорить о революции, «сразу начинают производить какие-то четвероугольные стихи»? Почему о революции нельзя говорить с душой, почему это должно быть непременно бездарно? «В любом заморышном стишке 1905 года, – он говорит, – было гораздо больше вреда для буржуазного сознания, чем во всех брошюрах, которые написал и еще напишет Карл Каутский». Чуковский страшно недоволен тем, что из литературы хотят сделать служанку революции. Это я уже частично цитировала выше:
«Литература абсолютна. Нельзя делать ее служанкой тех или иных человеческих потреб, нужно служить ей и обожать ее, жертвовать для нее здоровьем, счастьем, покоем. Нужно, словом, иногда не думать о том Костеньке, который она произведет в результате этого всего». Откуда здесь взялся Костенька?
Чуковский предлагает: представьте, дорогой читатель, что вы влюблены в прекрасную девушку, вы держите ее за руку, вздыхаете, целуете ее, а вам кто-то говорит, что вы все это делаете исключительно, для того чтобы обзавестись маленьким Костенькой – вам это будет обидно и оскорбительно. «Нужно, полезно, выгодно, необходимо, чтобы все орудия нашего бытия забыли о своей орудийности, чтобы наука даже оскорблялась, когда ей навязывают прикладные стремления, чтобы поэт верил в искусство для искусства, чтобы религиозный человек не подозревал о пользе своей религиозности».
Здесь он, кстати, рассуждает, как материалист. Он говорит, что христианство, которое утверждалось в Европе, было исключительно полезно для Европы в смысле ее развития. Но христианские мученики, которые утверждали христианство, делали это не потому, что они стремятся принести пользу общественному развития, а потому что они уверены в своей правоте, они любят Бога, они это делают ради него. «Тогда и религия, и наука, и искусство, и патриотизм, и любовь – словом, все, что не существует для нашего бытования, только тогда оно сослужит нам пользу, только тогда оно достигнет тех результатов, которые мы в тайне от себя чрезвычайно желаем».
И вот совершенно необычное. Здесь уже проявляется в полной мере склонность Чуковского к эпатажу: «Революция всегда, везде и во всем вредна литературе. И не говорите мне, что это временно, что потом через революцию, благодаря революции литература расцветёт пышным цветом. Во-первых, это неверно. Во-вторых, разве любовники откладывают объятия на завтра?»
Ему на это ответил Луначарский, будущий нарком просвещения. Луначарский сказал, что литература обязана заниматься общественным служением именно ради этого самого завтра. «Искусство не бесполезно, а полезно, потому что оно удовлетворяет запросы человека, смягчает его жажду, несет с собой наслаждение. Цель художника совпадает с целью революции, потому что уже к существующим сокровищам мыслей художник должен добавить новые, поэтому художник должен рассуждать так: «Если для существования Данте нужен социализм, я должен служить социализму своей кистью или пером»».
Чуковский предложил читателям анкету «Революция и литература», предложил порассуждать о роли революции и литературы. И оказалось, что позицию Чуковского до такой степени не поняли, что все предположили, будто он утверждает исключительно искусство ради искусства и категорический противник революции. Все стали возражать, как говорит Чуковский, «этому мифическому чудаку», хотя шквал откликов был огромный и газета «Свободная мысль» публиковала их еще довольно долго.
Для Чуковского в искусстве революция – это не революционные слова, облеченные в скучные штампованные формулы. Это революция формы. Здесь, говорит он, декаденты, которых считают противниками революции, самые большие революционеры, потому что они выступают против мещанского обывательского сознания, они разрушают штампы, они разрушают устоявшуюся форму. Они несут новое, как это делают настоящие революционеры. Тогда как певцы революции, сочиняющие свои революционные вирши, производящие на свет обличительные произведения…
Почему, – говорит Чуковский о сборниках товарищества «Знание», – и у этого писателя приходят жандармы и кого-то бьют, и у этого писателя приходят жандармы и кого-то бьют, «как будто у нас заработала специальная машинка для обличения жандармов». Сколько можно? Это не революция – это обывательство, это штамповка, это клише, это не литература и не революция. Это пошлое мещанство.
«Игрушечная Дума» – статья, которая увидела свет в 1907 году, это как раз, помните, год, когда заработал первый российский парламент – Государственная Дума. Статья эта с тех пор не переиздавалась, она не входила в собрание сочинений. Здесь очень интересный взгляд Чуковского на русскую литературу, в том числе, и классическую литературу. Поскольку у нас никогда не было парламента и была цензура, художественная литература, по мнению Чуковского, оставалась единственной площадкой, на которой все эти проклятые вопросы можно было обсуждать, потому что в парламенте и на страницах толстых журналов вести политические и экономические, социологические дискуссии вести было решительно невозможно.
«Все литераторы, – говорит он, – были переодетыми Пройдами». Пройда – это популярный депутат того времени. «Литератор и читатель встречались друг с другом у позорного столба Чернышевского, у виселицы Желябова, на веселых Ходынских полях». В литературе создалось совершенно невозможное положение, когда «писатели стали делиться не на талантливых и бездарных, как положено, а на правых и на левых, как во всяком парламенте. И толстые журналы стали заниматься не литературой, а политикой. И закрытие журнала – это всегда был акт политический, а не литературный». Чуковский считает, что все это нанесло русской литературе колоссальный и непоправимый вред, потому что журналы «с направлением» начали отбирать писателей по направлению, а не по таланту.
«Одни только «Отечественные записки», – говорит Чуковский, – утаили Тютчева, Фета, Алексея Толстого, Щербину, Мея, Полонского, Случевского, Страхова, и выдвигали при этом Скабичевского, Засодимского и иже с ними, потому что правильного направления. Теперь, когда у нас парламент, обо всем этом можно разговаривать в парламенте. Нам не надо журнального шепота, мы можем, наконец, заниматься литературой».
Чем же занимаются литературные журналы в 1907 году? Вот Чуковский считает: «Шесть-семь журналов. На журнал десять статей антистолыпинских, в год – 120. Итого в год 720 – 840 статей о Столыпине, больше ничего. Читатель остался-таки без всего – ни одной статьи по естествознанию, по педагогике, по философии, ни одной строки о западной литературе, о живописи, о новых научных теориях, о веселой красивой и культурной жизни. Россия живем не одним Столыпиным. Не крадите же у нас этой жизни». Он говорил, что литературе пора перестать быть игрушечной Думой.
Литература довольно скоро перестала быть игрушечной Думой. Маятник качнулся в другую сторону: поражение революции 1907 года, 1908 год, столыпинская реакция. Общество уходит в мистику, в философские поиски, в решение полового вопроса, и одной из главных новинок в 1907 году становится роман Арцыбашева «Санин». Санин – сверхчеловек, который утверждает животную энергию, абсолютный эгоизм, человек, который плюет на мещанские обывательские устои и делает только то, что он сам хочет.
Чуковский, утверждавший, что «самый неблагородный писатель может сочинить самый благородный сюжет», предлагает присмотреться: такой ли Арцыбашев анархист и революционер, каким сам себя показывает. И находит у Арцыбашева скучнейшие вялые сложные предложения, долгие периоды, умствования, доказательства. «Боже мой, – говорит Чуковский, – таким слогом даже о лошадных и безлошадных писать нельзя». Социально-экономические работы о лошадных и безлошадных крестьянах – они действительно писались наукообразным слогом.
Чуковский находит у Арцыбашева грамматические ошибки и говорит: «Можно быть каким угодно анархистом, но не в русской же грамматике». Он восклицает: «Говорят, что «Санин» – порнография. Боже мой, если бы это было так!» И рисует картину: читатель, чихая от пыли, видит у Арцыбашева суфлерскую будку, а в ней сидит Горький и подсказывает ему, и нашептывает что-то про сверхчеловека и прочее ницшеанство.
Для Чуковского революция в литературе – это, прежде всего, революция формы, это новизна, яркость и свежесть изложения. Содержание здесь вторично. Чуковский эпатирует читателя заявлениями вроде: «Пусть он покажет нам как можно ярче свою душу – не все ли равно, какую». Но ему, разумеется, не все равно. Для него текст – это, прежде всего, человеческая душа, отраженная в этом тексте. Душа, которая нас волнует, цепляет эмоционально, куда-то ведет за собой.
Конечно, у Чуковского есть свой эстетический идеал – это гармония души, отраженная в гармонии текста. Это, конечно, всегда только идеал, только конечная цель, в которой движения бесконечно. Во всяком писателе Чуковскому дорого и мило именно то, чем он несовершенен, чем он грешен, на чем (по его собственному выражению) он помешан. Чуковский говорит: «Критик – это сыщик, это Нат Пинкертон, который выслеживает у каждого писателя его пунктик помешательства».
Вот здесь основа творческого метода Чуковского: он анализирует язык произведения, художественные приемы автора, а не его содержание, и на основании этих формальных выводов реконструирует лирическое «я» это писателя, реконструирует душу, которая отражается в этом тексте. Это правило применимо не только к индивидуальному языку писателя, но и к языку эпохи – у эпохи тоже есть свой язык, и он всегда отражает эпоху, отражает душу общества. Если язык становится корявым, страшным, штампованным – это, значит, в обществе происходит какое-то безобразие.
Когда Чуковский не может сказать по цензурным условиям: «Наше общество безобразно», – он говорит: «Наш язык безобразен». Может быть, если пытаться служить красоте и помнить о языке, может быть, как-то и душа тоже на место встанет? Он постоянно следит за изменениями языка, фиксирует новые слова, появляющиеся в языке, следит за тем, как эпоха отражается в детских изречениях, в смешных высказываниях. Действительно, это целая эпоха, когда за смешными словечками, которые родители присылали Корнею Ивановичу начиная с 1909 года и до самой его смерти, действительно встает вся история страны с Метростроем, с управдомами, с полетами в космос, с войной – вся, вся, вся, отраженная и переломленная в детском сознании.
Тем не менее, несмотря на то, что Чуковский сохраняет формальный подход к творчеству автора, анализирует, прежде всего, форму произведения, он не ограничивается формой. Отсюда его принципиальные расхождения с формалистами в 20-х годах, после революции уже, когда Чуковский преподавал в студии при «Всемирной литературе». Это студия, которая собрала молодых писателей и поэтов, желавших быть переводчиками, их вроде бы должны были обучать принципам перевода, а на самом деле это стало настоящей школой художественного мастерства, там преподавал Чуковский, преподавал Шкловский. И как-то студийцы быстро разделились на шкловитян, приверженцев формального метода, и чуковистов.
Чуковского принципиально возмущал и раздражал подход формалистов к художественному произведению как к сумме приемов. Он говорил: «Я о душах человеческих, которые в языке открываются, я только о них и пишу». О том странном, исчезающем чем-то, что называется человеческая душа. Разумеется, душа, с точки зрения формалиста, – термин ненаучный.
Подробно говорить о дискуссии Чуковского с формалистами не буду, просто остановлюсь на том, что его позиция не устраивала ни тех, ни других: ни сторонников формы, ни сторонников содержания. Лучше всего, наверное, эту мысль выразил Саша Черный: говоря о том, должен ли быть прекрасен сосуд, а в нем может быть налито, что угодно, или можно наливать в глиняный горшок самое прекрасное вино, он заключает: «Ведь можно наливать вино в хрусталь». Вино в хрустале – как раз творческий идеал Чуковского.
Но писатель несовершенен, писатель мал, писатель слаб, у писателя действительно есть какие-то излюбленные приемы, которые иногда обнажают его фатальные недостатки, а иногда подчеркивают его силу. Чуковскому дороги они такие, какие есть – не в ореоле святости, не очищенные от всех своих недостатков, которые старательно замалчиваются каноническими биографиями, а именно такие, какие есть.
В 1909 году 1 марта Чуковский опубликовал в газете «Речь» юбилейную статью про Тараса Шевченко – статью, написанную с огромной любовью к Шевченко, но, конечно, не без чуковского эпатажа. В статье говорится, что Шевченко пишет о покинутых женщинах, пишет о покинутой Украине, так тоскует о них, так любит их, что, кажется, только покинутое он и может любить. Этого Шевченко никто не знает, все юбилейные речи о нем произносятся в духе той самой речи про многоуважаемый шкаф, над которой все так смеются в «Вишневом саде». Между тем, речь, обращенная к многоуважаемому шкафу, практически дословно воспроизводит стилистику, поэтику юбилейных речей, которых было особенно много на рубеже XIX-XX века с их любовью к юбилеям, отмечаниям какого-нибудь 25-летия творческой деятельности, чествованиям и так далее.
На Пушкинском юбилее 1899 года произносились как раз очень похожие речи. Если говорили о Шевченко – то говорили о великом сердце Шевченко, о его служении многострадальному народу. Чуковский на это возражает: «Не знаю, было ли у него великое сердце, но великая печень у него была несомненно. И создания его великой печени непревосходимо прекрасны».
Что имеет в виду Чуковский? Не хронический алкоголизм, наверное, хотя и это имело место. Чуковский имеет в виду язвительность Шевченко, гнев, с которым он обрушивается на палачей своего народа, о том, как он умеет ненавидеть, и о том, как он умеет любить.
Вот цитата из Чуковского, которая вызвала максимум общественного негодования: «Этот лысый, пьяный, оплеванный, исковерканный человек, когда садился за стол и брал в руки перо, становился как бы иереем, совершал богослужение». Он говорит о том, как поклонялся он Украине, как умел быть нежным в стихах, каким тонким. Как его стих становился звучным, как он шуршал камышами, как он гудел дудкой, какой он богатый. Но публика-то прочитала про лысого и пьяного. Чуковский же посягнул на Шевченко, замахнулся, оплевал. Не дадим обижать Шевченко, руки прочь от Шевченко!
На газету «Речь» обвалился такой шквал негодующих откликов, что Чуковскому пришлось написать целую статью, которая называлась «Излишнее рвение», где он возражал эти поклонникам: «Я забыл, что таким юбилейным враньем Шевченко весь обмазан, как патока, что его самого уже давно из-под него не видно». Чуковский пытается защищаться: «Разве лысого я люблю его меньше, чем лохматого? Разве пьяный он менее гениален, чем трезвый? Обыватель полагает, что у гения должна быть шевелюра», – говорит Чуковский.
Действительно, даже сейчас, как только начинаются разговоры о литературе, тут же выплывает: нет, Толстой был вздорным старикашкой и мучил жену, нет, Пушкин вообще был безнравственный, нет-нет, невозможный, а Лермонтов совсем плохой. Никого нет с моральным позитивным обликом из этих людей, они нас еще жизни учат, невозможно их читать. Цветаева? Ой, вообще, не будем про Цветаеву. Это такие светила? Это нам в школе велели на них равняться? Нет, нет, если они морально не безупречны сами, то их читать не имеет смысла. Невероятное количество подобных дискуссий появляется. Более того, люди говорят: не хочу читать никаких писательских биографий – пусть для меня писатель остается на высоте.
У Чуковского принципиально иной подход к писателю, он не возводит его на пьедестал, он его просто любит такого, какой он есть, со всеми его несовершенствами, с его лысиной, с его пьянками, с его картежничеством, как у Некрасова. Для него вот эта несовершенная человеческая душа как раз и есть свидетельство того, что искусство самую пьяную, самую растерзанную, самую изломанную человеческую душу преображает и облагораживает.
Не человек с его пороками принижает великое искусство, а великое искусство преображает и возвышает своего творца – вот очень важная для Чуковского позиция. Это тоже, в общем, мало, кто понял.
Еще одна принципиально важная статья Чуковского «У последней черты» говорит о том, что русская литература, которая так хорошо умеет ставить проклятые вопросы и задаваться смыслом жизни, кажется, только ты пришел в русскую литературу, что-то она моментально такое с тобой делает, что ты тут же начинаешь спрашивать про смысл жизни. Что она спрашивать-то спрашивает, а ответов не дает. В ней нет радости, нет этого самодостаточного служения прекрасному, нет поэзии культурного труда. Нет веры в то, что все это надо делать, что все это самоцельно и самоценно. Нет служения каким-то иллюзиям, пусть они иллюзии, но они прекрасные иллюзии, без них невозможно жить. Без них врач ненавидит своих пациентов, инженер ненавидит свое дело, учитель ненавидит своих учеников.
Посмотрите, говорит он про русскую литературу, все страдают, мучаются, терзаются, никто не знает, что делать, никто не понимает, что жизнь – это прекрасно, что жить надо.
У меня была в позапрошлом году одна десятиклассница, которая меня спрашивала: «Почему русская литература такая депрессивная? Вы скажите, в ней есть какие-нибудь герои, которые любят свое дело, любят свою работу, любят свою профессию, любят мир?»
Чуковский таких героев находит у Гарина-Михайловского: они о действительно живут с восторгом, делают свое дело с энтузиазмом, трудятся с радостью. Конечно, этим дело не ограничивается, и в русской литературе мы найдем немало таких ярких, радостных, солнечных талантов, брызжущих желанием жить.
Но для Чуковского, который исследует с 1908 года эпидемию самоубийств, которая прокатилась не только по русской жизни, но и по русской литературе – для него принципиально важно, что с обществом происходит эта утрата смыслов, целей, самоцелей, что общество потеряло длинную фанатическую мысль, которой оно способно служить. Для него самого эта длинная фанатическая мысль – это культура. Учить культуре, учить литературе, проповедовать прекрасное – это всегда можно, в любые времена, даже когда времена такие скверные, что «не жить, не чувствовать – удел завидный, отрадней спать, отрадней камнем быть».
Во все времена такое случается, и 66-й сонет Шекспира об этом же. Что можно делать, когда жить, кажется, незачем, когда жить не для чего? Вот это нужно делать – служить красоте и правде. Учить и лечить, лечить и учить с полным осознанием того, что ты бьешься, как рыба об лед, что это гиблое дело, что оно совершенно бесполезно. Недаром Чуковский так любил цитировать стихотворение Гете в переводе Тютчева «Два голоса»:
Мужайтесь, о други,
Боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен,
Борьба безнадежна.
Все равно надо, потому что это самоцель. Потому что есть прекрасное, и оно заслуживает того, чтобы ему служить просто потому, что оно этого заслуживает, просто потому, что оно есть.
«Займитесь же культурой!» – эта заключительная реплика из статьи «В бане», где он говорит: «Культура тем уже хорошая вещь, что много она дает разных развлечений, когда тебя свяжут и сядут тебе на голову во всю ширину своего седалища. Займитесь же культурой!»
Наверное, здесь еще можно много говорить и о революции, и о литературе, и о том, что Чуковский считал нужным делать потом, после революции, когда в критике возобладал подход с использованием марксометра, и он уже не мог заниматься критикой; когда он воевал за сказку. Ведь советским детям сказка не нужна, – «нам бы что-нибудь про дизеля». «Акулов не бывает», не надо отвлекать ребенка от великих задач социалистического строительства всякими благоглупостями, зайчиками, мухами, давайте будем говорить про фабрики и заводы. Но ведь и про фабрики и заводы тоже надо говорить умело, весело, – так, чтобы это было прекрасно. Когда оно прекрасно, то и воспитательное значение прикладывается само собой, а без этого ничего не получится. «Займемся же культурой!»
Если есть вопросы, с удовольствием отвечу.
Я сознательно ограничилась только дореволюционными взглядами Чуковского на полезность и бесполезность. Естественно, они менялись, но во всем, что дальше делает Чуковский, они все равно проявляются. Когда он пишет о Некрасове, недаром он пишет не о «революционно-демократических идеях в творчестве Некрасова» – он пишет «Мастерство Некрасова».
Когда к нему приходят обучаться стихосложению, он учит тому, как стихи должны быть прекрасны, гармоничны; учит, как держать жесткую «дисциплину стиха». А слушатели спрашивают: «Почему вы нам ничего не сказали о содержании? Почему вы не сказали, что содержание должно быть коммунистическое?»
Так оно всю жизнь продолжалось – и Чуковский действительно всю жизнь и провел, как такой рыцарь прекрасного, верный служитель литературы, которая для него была абсолютом, и всю жизнь оставалась абсолютом.
– Какие взаимоотношения были с советскими властями?
– Разные в разное время. Чуковский остался в России после революции, остался сознательно. Это была серьезная позиция большого количества русских интеллигентов в это время. Он действительно старался служить делу культуры, просвещения, участвовал в огромном количестве проектов, работал в горьковской «Всемирной литературе». Переводил, публиковал, участвовал в комплектовании и формировании детских библиотек и школьных библиотек, боролся за хорошую детскую книгу. И всё это время он видел, сколько ему палок вставляется в колеса на самом разном уровне, когда власть подходит к делу книгоиздания и цензуре с этим марксометром, с представлениями о примитивной пользе, вот это пролетариату полезно – это публикуем, вот это пролетариату вредно, не публикуем.
Каждый раз, когда власть проявляла какой-то живой интерес к тому делу, которое он считает важным и нужным, Чуковский безумно радовался. Каким счастьем исполнены страницы его дневника 1935 года: «Какое счастье, что детская литература, наконец, попала в руки комсомола». Это он с Косаревым поговорил о том, как детская литература дальше будет развиваться, что ей будут заниматься не старые тетки, эти училки ужасные, которые убивают все живое – что этим будут заниматься веселые молодые ребята – комсомольцы, которые, наконец, оценят, что детская сказка должна быть счастливой, задорной, динамичной, что в ней есть место фантазии.
Разумеется, Чуковский, попал под массовый гипноз тоталитаризма. Есть знаменитая его дневниковая запись, где он описывает, как вместе с Пастернаком участвует в коллективных овациях Сталину на X-м съезде ВЛКСМ, как они все влюбленно смотрят на Сталина, как они перешептываются.
Разумеется, как человек мыслящий, он страшно недоумевал, когда начались аресты, и первыми их жертвами стали Каменев и Зиновьев, которых он знал. Неужели они действительно могут быть такими двуличными, неужели они вынашивали заговор? Я ведь совсем недавно видел Каменева, он со мной говорил о делах издательства «Академия». Как это может быть?
Он пытается логически объяснить себе вещи, логически непостижимые. Потом, конечно, когда террор непосредственно коснулся его семьи, когда очень многие лично знакомые ему люди, были уничтожены этой волной террора, конечно, иллюзий он особых не испытывал.
Тем не менее, как и для всех, XX съезд стал для него таким каким-то прорывом в правде, к свободе, к очищению от этого всего наносного. Конечно, на склоне лет он уже все понимал, никаких иллюзий не испытывал, а испытывал, наверное, горечь. Говорил: «Думал ли я, что до такого доживу». Страшно горевал по поводу вторжения войск в Чехословакию в 1968 году. Болен был просто, до такой степени было больно, что он просто физически себя плохо чувствовал.
Очень плохо относился к радио и телевидению как к средствам массового оболванивания населения. Отношения с властью к концу жизни у него были такие настороженно-отстраненные.
– Издавали его?
– Издавали, да, издавали. При этом зверски калечили цензурой его произведения. Когда издавался его шеститомник, работа над шестым томом, где он пытался издавать свою литературную критику, была совершенно невозможной, потому что по цензурным условиям то одно было нельзя, то другое нельзя, это публиковать нельзя, здесь надо переделать, здесь надо выбросить, того не упоминаем, здесь вставляем марксистские ремарки. Конечно, его это все дико бесило, просто выводило из себя страшно. Я думаю, что здесь он действительно никаких особых иллюзий не испытывал.
Да, к концу жизни у него было всё: у него была слава, у него были тиражи, он стал признанным детским писателем. Но это была очень тяжелая и горестная жизнь, на протяжении которой он не раз подвергался обструкциям, обструкциям очень тяжелым.
Три тяжелых кампании было – это 1929 год, когда его вынудили написать покаянное письмо: «все мои сказки никому не нужны, все мои темы и сюжеты умерли, я – литературный труп, я осознаю свои ошибки, я обещаю дать советским ребятам «Веселую колхозию»». Конечно, никакой «Веселой колхозии» он не написал, был измученный человек, совершенно отлученный от литературы. А он был из тех писателей, которые не умеют писать в стол. Ему нужен был живой диалог с читателем, ему нужно было публиковаться, ему нужно было кормить семью, а он был человек слова, человек литературы. Если отнять литературные гонорары, чем он будет жить?
Вторая волна обструкции была связана со сказкой «Одолеем Бармалея», которую он написал в 1943 году в попытке объяснить самым маленьким детям, что такое война, и за что воюет советский народ. И вот это была как раз та самая чуковская ошибка, когда он пытается сразу сконструировать и создать общественно-полезное произведение – и получилось совсем не то, что нужно. В общем, сказка вышла откровенно неудачной, но вместо того, чтобы просто как-то снисходительно простить собрату-писателю неудачу, творческую неудачу, на которую каждый человек имеет право, поднялась инициированная сверху волна негодования, объясняющая неудачу сказки политической недальнозоркостью, политическим вредительством, очернением, сознательным очернением и опошлением подвига советского народа. Представляете, что это такое – такие обвинения в 1943 году. И опять же останавливается печатание книг, не берут в печать ни одну статью, прекращаются, естественно, любые денежные поступления. Приходится воевать за все и зарабатывать на жизнь чтением лекций о Некрасове.
Третья волна, совершенно уже несусветная, была направлена на сказку «Бибигон». Прелестную, солнечную, летнюю сказку, но это было время 1945-1946 год, когда партия решила, когда было сказано, что рано расслабляться, наша задача теперь – восстановление хозяйства. Мы должны мобилизовывать, а тут какие-то безыдейные мальчики в треуголках летают на стрекозе. Опять же – «пошлая и вредная стряпня Корнея Чуковского».
И «Бибигон», в общем, угодил под те же тракторные гусеницы, под которые угодили Ахматова и Зощенко. «Мурзилка», где печатался «Бибигон», стал одним из журналов, на которые была обращена кампания, пик которой пришелся на журналы «Звезда» и «Ленинград».
Конечно, после этого всего, после такой травли, после свистопляски бесконечной, после остракизма, изгнания из литературы, после того как он потерял множество своих прекрасных друзей, откуда у человека иллюзии?
Вспоминается, как немолодой Александр Николаевич Островский уже к концу жизни, когда он очень плохо уже себя чувствовал, получил большой-пребольшой театральный пост – сделали его крупным театральным начальником, и он по этому поводу сказал: «Дали белке воз орехов, когда зубов не стало». Такова вот и эта финальная слава Чуковского, которая, в конце концов, справедливо на него обрушилась.
Я думаю, что дело не в том, что его партия любила за какие-то особые заслуги, дело в том, что это была всенародная любовь, потому что уже несколько поколений подряд выросли на его книгах, и у каждого это было связано со счастливейшими воспоминаниями детства, как наверняка у каждого из нас.
Фото: Ефим Эрихман
Видео: Виктор Аромштам
Просветительский лекторий портала «Правмир» работает с начала 2014-го года. Среди лекторов – преподаватели духовных и светских вузов, учёные и популяризаторы науки. Видеозаписи и тексты всех лекций публикуются на сайте.