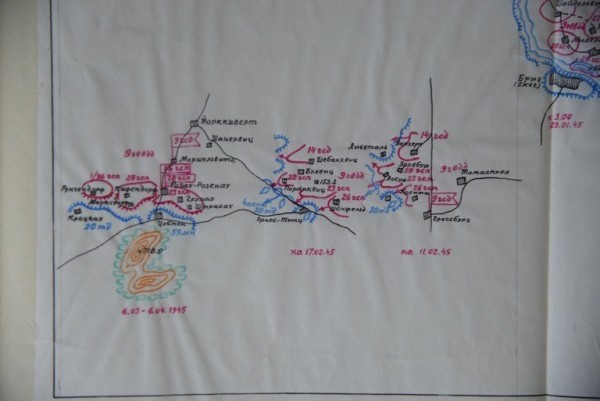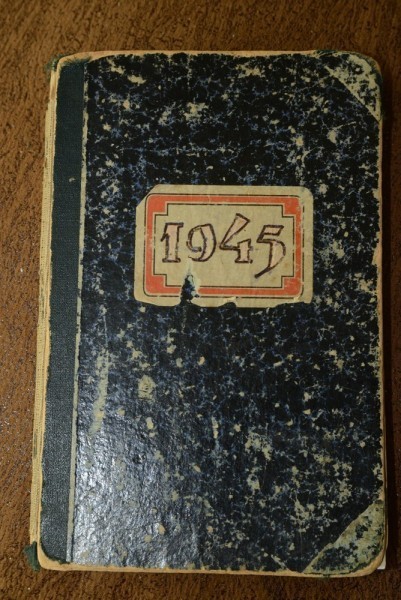- Победный дневник: как мой дед на передовой оказался (Начало)
- Победный дневник: Как мой дед немцев догонял
4 февраля
Часа в 4 утра из Фраунхейна перешли на южную опушку рощи, что восточнее Кляйн-Энквиц. Разместились под обрывчиком, и дрожали до рассвета.
Часов в 10 наша артиллерия вместе с «Катюшами» сделала мощный артналет по Темпельфельду и Лаугвицу. Химики прикрылись дымом. СУ-152, урча, двинулись вперед. «Илы» и «Петляковы» пронеслись над головами. Началось наступление по окружению Брига.
Пехота без особых затруднений вступила в пылающий Лаугвиц. Фрицы бежали без оглядки… Мы их преследовали. Остановились только у домика лесника в Комрадасвальде. На нас налетели «Мессеры», стали обстреливать из пушек и пулеметов. Мы им отвечали из винтовок, но безрезультатно.
Увидел первую живую немку. Ее где-то поймали и привели на допрос. Ершов говорил с ней, а она смотрела на нас дикими глазами и, очевидно, думала, что мы ее сейчас будем рвать на куски и есть…
Ночевали кто где придется…
5 февраля
Сдав свой участок частям 120-й армии, ушли на свою полосу. По дороге несколько раз попадали под огонь немцев и, как нарочно, там, где нет ни ямки, ни канавки, чтобы залечь, спрятаться от осколков…
Запомнится навсегда это поле между Кляйн-Энквицем и Кляйн-Эльсом. Жидкая, чуть сверху примерзшая грязь. Лес, впереди чернеющий, манящий к себе: «Здесь твое спасение!» Визг мин бросает меня на землю, в грязную жижу. Звонкий разрыв – и осколки со шлепками грязи, летящие прямо в лицо.
Или горящий Кляйн-Эльс, по которому лупит что есть мочи из тяжелой и прочей артиллерии противник…
Или перегон автострады между Кляйн–Эльсом и лесочком южнее. Долго смотрел на дорогу; по кювету вдоль нее перебегает пехота. А на дороге все горит и рвется. По кювету же выносят раненых и убитых. Некоторые бредут сами. Прямо от дороги примерно в километре бугор; очевидно там наблюдательный пункт фрицев.
Наконец решился — вперед и только вперед! — где перебежками, где ползком. Метрах в двухстах оглянулся – а на том месте, где я стоял, осматривался — уже рвутся снаряды… Страшно стало от мысли — что бы было со мной если бы я промедлил немного…
Единым духом преодолел это расстояние – около двух километров. Взмок. Уже около леска, под конец, какой-то автоматчик-фриц выпустил по мне очередь разрывных, но я успел уткнуться в кювет носом, и они просвистели у меня над головой.
Долго не мог отдышаться, лежа на берегу реки Оле. Наконец, решил искать своих, которых догнал у мельницы…
Или уже вечером при приближении к Вейгвицу мы шли «бардачком» по дороге: я, несколько разведчиков, связной и девушки из взвода связи – радистки, телефонистки. Издалека послышалось шипенье. Ближе, ближе… Звук прижимает к земле. Надо падать. На асфальт? – ровное место, разнесет в клочья! В кювет? — там полно ледяной воды! Время, сейчас рванет! – хлоп! Падаю на асфальт. Над головой со звоном летят осколки. Кто-то мокрый вылезает из воды, матерится на чем свет стоит. Хорошо, что все целы, никого не задело… Вдруг, новое шипенье. Кидаемся к сараям, метрах в 20. Два, три скачка… нет! не успеть! Хлоп! – на землю, в грязь… Разрыв… звон осколков…
Врываемся в сарай – стены кирпичные, толстые, ничего! Ждем третьего снаряда. Его нет, слава Богу! Через минуту нервное возбуждение проходит и всех гонит на малую нужду, которую справляем тут же…

Борис Ильин — второй слева
7 февраля
Сегодня ночью пришли в Курч, думая, что, наконец-то, все кончилось, и что мы спокойно отдохнем.
Весь день творилось невообразимое, и каждая минута могла стать концом жизни. Висела над головой шрапнель, танки били прямой наводкой по нашему НП, строчили крупнокалиберные пулеметы с «Мессеров», бомбы выли. От этого воя душа постепенно лезет в пятки, и самому хочется влезть в землю. Вот она – всё ближе, ближе… вой нарастает — буухх! земля и камни сыплются на тебя.
Мы хотели отдохнуть в Курче. Как бы не так! Фриц начал лупить по деревне термитными снарядами. Один попал в наш дом, кого-то ранило – были слышны стоны…
Ночью паника была. Кто-то дал очередь из автомата по комнате командира полка, кто-то крикнул: «Немцы!», а кто-то шарахнул пару гранат. И началось!..
Были ли то действительно немцы или воображение из мухи слона сделало – не знаю. На улице рвались гранаты, мы в своем доме заняли круговую оборону. Из окон торчали «Максимы» и ПТРы. Строчили вдоль улиц из автоматов и пулеметов, ухали выстрелы.
По рации связались с батальонами. У них все спокойно. Постепенно успокоились и мы. Выставили часовых, по улице пошли патрули. А мы продолжили прерванный отдых…
9 февраля
Черт знает, что такое! Нет настроения писать или вообще делать что-либо. Со дня на день жду чего-то. Да, собственно говоря, ни «чего-то», а определенно — смерти. Кажется, что скоро меня где-то стукнет.
Эх, многое бы надо написать о виденном и пережитом, да в такое время все это не получается. Читал я где-то: « Страшна не смерть, а её ожидание». Это совершенно верно. До чего же неохота помирать! Скоро конец войне, а тут?..
Нахожусь в Курче. Жизнь – солдатская: ух! … бух! И т.д.
Иногда захаживаю к связистам и минометчикам. У них Левка Белобров «откалывает номера» на пианино. Весело, хорошо…
14 февраля
После семидневных боев заняли наконец-то Кляйн-Брезу, и наше НП переместилось туда. Под свою резиденцию мы заняли имение некой Марии фон Мольтке. Огромный особняк в большом парке на берегу речки. Хозяева разбежались – все в нашем распоряжении. Кто-то роется среди барахла, кого-то интересуют фотоаппараты. Я навожу порядок в библиотеке. Кто-то до меня побывал здесь – книги вывалены из шкафов и полок на пол, всё перевернуто. Наверное золото искали… или клад… Книги, как и следовало ожидать, все на немецком языке и ничего любопытного и знакомого мне я не обнаружил.
Кто-то принес мне костюм: «Вот, нашел. Мне он велик, а тебе будет как раз!..» А на что мне костюм? Хоть он и серый, и красивый? Но я взял его, прикинул – вроде да, подходит. И бросил свой походный чемоданчик, который валяется у меня где-то на повозке, среди штабных коробок. Пусть лежит, хлеба не просит. Цымбалов обзавелся аккордеоном, но его усмотрело более высокое начальство и забрало у него…
Знакомимся с фауст-патронами. Любопытная, здоровая штука. Ершов, поскольку ученый – он аспирант какого-то Харьковского института, объясняет желающим его действие, сопровождая объяснения рисунками. «Кумулятивный», «в одну точку вся сила взрыва» и пр. – это все для меня высокая материя. Да и для большинства. Фауст-патронов гора, и желающие практикуются в их применении. Уже научились стрелять; каждый хочет попробовать. Весь берег разнесли…
Приводят много пленных. Ершов их допрашивает. Братва относится к ним мягче, философствует, дает закурить. И не обращает на них никакого внимания. Пленные ведут себя мирно, это фольксштурмовцы и зеленая молодежь. Среди последних есть и наглые. Пытаются нам насолить. Один мальчишка, ефрейтор несчастный, на допросе вообще хамил и врал всё.
Когда его спросили, чего он врет, он ответил:
— Гитлер и родина не позволяют мне говорить правду моим врагам…
Ах, собачишка паршивая!.. И это еще не всё. Когда, закончив его допрос, все отвернулись от и перестали на него обращать внимание, он как зверь кинулся к фауст-патронам, которые беспечный наш брат-славянин оставил без надзора. Пришлось нашему полковому химику гв. ст. лейтенанту Чернышову стукнуть его по портрету саблей – плашмя. Это успокоило несколько ефрейтора. Очень кстати где-то здесь, в одном из кабинетов особняка, подобрал саблю Марии фон Мольтке Чернышов…
Фрицы бьют по Кляйн-Брезе непрерывно, но имение не трогают. Поэтому мы отсиживаемся здесь и обедать к кухне не ходим…

16 февраля
Вчера взяли Борау, а сегодня Шёнфельд. НП двигается туда. Выдохлось наше наступление. Людей всех выбили, пополнения нет, и мы идем вперед черепашьими шагами, вернее даже – топчемся на месте.
В Шёнфельде нас встречают гражданские – это бывшие немецкие рабы – русские, украинцы, поляки, угнанные со своей родины в Германию.
Шёнфельд в общем цел, разрушений мало. Устраиваемся, развертываем работу. Батальоны по нескольку раз атакуют Гросс-Тинц, но ничего не могут сделать – отходят на исходные рубежи. Против нас стоит уже не фольксштурм, а кадровые войска, прибывшие сюда с западного фронта.
18 февраля
После завтрака и Шёнфельда пошли в Гросс-Тинц, который наконец-то был занят нами. До него около трех километров. Впереди – справа и слева от Гросс-Тинца — расположены высотки 175,2 и 174,4, которые несколько раз штурмовали наши и ценой больших потерь взяли. Мы шли по полю, слегка подмороженному. Справа тянулись, будто нарочно построенные в ряд, деревья, и тек ручей.
По правде сказать, я не особенно верил тому, что фрицев с тех высоток сбили, мне все казалось, что там, все-таки, есть их НП, и с минуты на минуту ждал, что на нас посыпятся снаряды и мины. Но было тихо, и казалось, что нет нигде никакой войны.
Мы вели разные разговоры и между прочим – в полушутку, в полусерьез – высказывали мнение, что при вступлении в любой населенный пункт помимо всего прочего нужно оценивать местность на предмет возможного драпа из этого населенного пункта…
Все отделились от нас и вышли на дорогу, а мы продолжали идти по полю с Цымбаловым. Почти у самого Гросс-Тинца, метров за 500 до него, на поле увидели мертвого фрица, рядом с которым лежал «машиненпистоле» — крупнокалиберный автомат или ручной пулемет облегченный. Цымбалов поднял его.
И тут мы увидели второго фрица – раненого в ногу. Он лежал неподалеку. Подошли к нему. До чего жалкий вид, и глаза умоляющие. Ранен он был вчера вечером и всю ночь пролежал здесь. Хотелось ему чем-то помочь. Не воюем же мы с такими… Шансов, надежды на то, что он будет жить – никаких. Кому он нужен и кто будет с ним возиться? Подошел Ершов, спросил у него что-то. Он ответил, что замерз, просит что-нибудь поесть. У нас ничего не было, кроме мешочка сахару у Цымбалова. Он отдал ему этот сахар. Сказали ему, что его подберут идущие сзади, а у нас были свои дела, и мы пошли дальше.
Здесь я забросил свой надоевший мне «Маузер» и взял валявшийся рядом с раненым немцем «машиненпистоле». Это было уже оружие, не то, что какая-то захордяшная винтовка…
Вошли в Гросс-Тинц. Солидные дома, на улицах баррикады. Пока я чистил свой новый автомат, все разошлись по трофеям.
Потом привели пленных. Фрицы, в общем-то, захордяшные, паршивые – не такие, какими изображают себя на фотографиях. До арийцев далеко. Злые, смотрят исподлобья. В большинстве это фольксштурмовцы, но есть и молодежь 1927 года рождения.
После того, как написал донесение, залез на НП – осмотрел горизонт в стереотрубу. Где-то далеко были видны разрывы мин, и горел дом. Зашел за сарай, испробовал свой «машиненпистоле». Остался им очень доволен. Хорошо работает, как зверь. Только запас патронов уменьшился наполовину. Попросил всех друзей – кто встретит немецкие патроны для этого автомата, чтобы несли их мне. Их калибр такой же как и у немецких винтовок, но они короче несколько. Ребята обещали…
На улице наши девчата, собрав на тележки всякий хлам, уходят домой, на Украину. Непривычно и приятно слышать родную речь от гражданских и видеть счастливые и радостные лица.
Вечером уже настраивался ложиться спать, как раздалась команда: «Выходи строиться!» Вышли, построились и пошли в деревню Лоейхен, откуда, как донесла разведка, противник ушел. Батальоны наши уже там. Было темно. Это радовало. Идти ночью мне по душе; конечно, если рядом нет дураков, которым не вовремя приспичило курить, и которые без толку там, где надо и не надо, разжигают фонари.
Перед выходом долго не могли разобраться, то то, то это… Наконец, зашагали. Дошли до места нормально. Вдалеке что-то горело. Гросс-Тинц тоже пылал. Изредка слушались то тут, то там разрывы снарядов. Небо рассвечивалось трассами пуль.
В Лоейхене разместились хорошо. Наконец-то легли спать. Спал, положив голову на автомат. На случай контратаки немцев. Помнил Кляйн-Энквиц проклятый!..
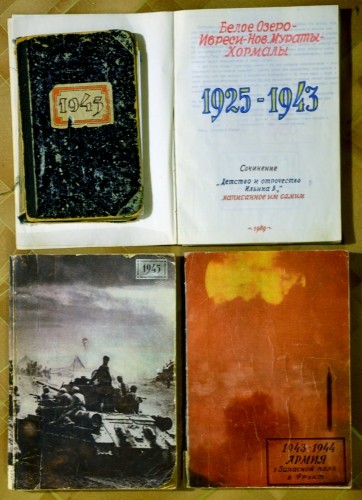
Военный дневник и мемуары
19 февраля
День прошел незаметно, и ничего особенного в течение дня не произошло. Настраивался написать письма домой, но ничего не получилось. Все время были в напряжении – батальоны несколько раз атаковали Вольфскирх, но взять его не могли. Немец сечет из пулеметов, и людей в полку осталось мало. Ждали команды – когда нас, штабников и прочих, пошлют в атаку…
В ожидании, от нечего делать, чтобы развеять мрачные мысли, листали какие-то журналы, смотрели картинки. Написал донесение в дивизию. А в мыслях – нет уже той силы, которая начинала наступать. Все СУ -152 добивают немцев в окруженном Бреслау, а несчастные СУ-76 «Прощай, Родина!» загораются от пули. И танков у нас нет. Уже все, кажется. Даже людей не осталось.
20 февраля
Ночь прошла спокойно. С утра вновь настраивался писать письма, но пока напился чаю, пока то да се, наши в 13 часов при поддержке «Катюш» и «Прощай, Родина!» пошли на решительный штурм Вольфскирха и в 13.30 взяли его. Привели пленных. Ершов их допрашивал, а потом всех отправили в штаб дивизии. Мы стали рассматривать фотографии, отобранные у фрицев. На одной из них надпись, сделанная по-русски: «На память Гайнцу от Люци. Июнь 1943 года». Симпатичная, но какая всё-таки сволочь эта Люция.
В 16.00 немцы перешли в контратаку и вышибли жалкие остатки наших подразделений из деревни. Их поддержали «тигры». 16 самоходок, которые были приданы нам для атаки Вольфскирха, были подбиты и сожжены. В полку совершенно не осталось людей. Приготовились к сражению и мы. Фрицы напирали. В это время меня внезапно послали в Гросс-Тинц – прибыло пополнение, 51 человек, – нужно было привести его сюда, к нам. Сами они дороги не знают и могут заблудиться. Я побежал в Гросс-Тинц. По дороге встретил Альштейна, гв. лейтенанта – из строевой части штаба полка. Он приказал мне дождаться его возвращения. Часов до 9 вечера топтался на улице, поджидая Альштейна, но его не было. Вскоре прибежал Песков – связной – и передал мне записку Альштейна:
«Ильин, одна нога здесь, другая – там! Беги в Шёнфельд, приведи шесть сержантов».
Да я и сам понимал, что время не терпит, что надо поторапливаться.
Перемахивая через канавы, я несся в Шёнфельд. Между Гросс-Тинцем и Шёнфельдом опять наткнулся на знакомых немцев. Второй тоже был мертв, так и лежал с мешочком Цымбалова в руках – кто-то из идущих сзади нас вскоре пристрелил беднягу. Какой-нибудь тыловик; хвастаться будет в будущем — и я убивал немцев!.. Что ж, велика заслуга!..
В Шёнфельде, в строевом отделе кипела работа. Я поздоровался со всеми; тут гв. лейтенант Анцифиров встал, подошел ко мне, жмет руку, поздравляет. «По какому поводу?» — спрашиваю. Он отвечает: «Вот приказ, командир полка наградил тебя медалью «За боевые заслуги». За Кляйн-Энквиц». Я лишь рукой махнул – нашли время для поздравлений!..
Коротко доложил строевикам обстановку, забрал командиров и повел их сначала в Гросс-Тинц, а затем в Лоейхен. Фриц вовсю стрелял, хотя было уже поздно, наверное, около часу ночи. Где-то близко ревели танки – неясно, наши или немецкие…
Ночь прошла спокойно, хотя раз пять пришлось подниматься по ложным тревогам. Все-таки очень серьезная обстановка…
21 февраля
К утру все успокоилось, немцы перестали напирать. Написал боевое донесение, а затем вместе с начальником штаба полка гвардии майором Мальцевым писали объяснение к вчерашнему бою, о причинах нашего отступления из Вольфскирха…
После этого решал – чем заняться. Хлопцы читают письма, и рассуждают о какой-то чепухе. Погодка на улице прекраснейшая, птички щебечут, солнце светит, но всё как-то не так, не по-нормальному, все какое-то напряженное, зловещее… От нечего делать сажусь фиксировать прошедшие события, а в уши лезет разговор ребят. Философствуют на тему – как лучше избежать смерти. Одни считают, что лучше всего изобрести такую машинку, которая в один миг уничтожила все имеющееся на земле оружие. Другие говорят, что лучше бы сделать всех людей бессмертными, неуязвимыми. А, в общем-то, все это – пустые разговоры, мечты, мечты…
Так вот до вечера ничего путного и не делал. А вечером получили приказ перебраться на другой участок. Вышли строиться, начали топтаться, как обычно, вытягиваться в колонну. А тут фрицы начали лупить по дороге. Эх, растак вашу мать! Вечно у нас такой бардак! Собираются — никак собраться не могут, тянут, тянут как нищего за… И все это под обстрелом… Ох, славяне, славяне! Губит вас эта беспечность. Везде, во всем…
В Дамсдорф пришли часам к трем ночи, опять бардачили, толпились, ходили под сильным обстрелом. Кое-как нашли дом с подвалом. Оборудовали НП. Я написал донесение, принес, расстелил на полу соломы, оделся своей «кавалерийской» и уснул что-то около пяти утра…
22 февраля
Проснулся замерзший, вскочил, поплясал, хотел снова лечь и вздремнуть, но не дал Цымбалов – надо писать донесение. Было уже утро.
День прошел сравнительно спокойно. Фриц сидит за деревней, метрах в пятистах, и бьет по нам прямой наводкой. Вокруг свистят пули, и летают осколки. Настроение по обыкновению не важное. Я уже бросил все делать, и только события записываю. А для чего? И сам не знаю… Наверное, по привычке. Конечно, я знаю, что все это я делаю напрасно, вот пять лет пишу обо всем, что происходит со мной, так и продолжаю. А ведь вот убьют, найдет кто эти записи, почитает, посмеется и выбросит их. А родные даже не узнают, что происходило со мной за те два года, что я ушел из дому… Ну, ладно, так или сяк, а пока жив, писать буду…
Отсиживаемся в подвале, и без нужды носа из него не высовываем. А уж если приспичит – никуда не денешься, скрипишь, но лезешь…
Вот снаряд попал в наш сарай, вот рвануло во дворе, а вот угодило в дом напротив. Вечером, когда почти всё успокоилось, входит Галямов химик – бледный, бледный. Говорит: «Ребята, я ранен…» Стаскиваем с него рубаху. В спине, чуть повыше поясницы, четырехугольная дыра, в руке — дыра. Спешно перевязываем его, и он ложится. Вот ведь судьба человека – не заметишь сам, как можешь остаться даже без головы!
Снова начали постреливать, и как раз в это время получили приказ – переходить на новый участок. Спешно собираемся, опять копаемся с построением, но, наконец-то, выходим. При выходе из Дамсдорфа немец делает нам прощальный салют, выпустив по нам с десяток снарядов. Но мы уходим все дальше и все дальше – на Дуквиц. Тёмная ночь прикрывает нас.
При подходе к Гросс-Зегевиц слышим гул тяжелой артиллерии в той стороне, куда мы идем. Всех интересует вопрос – кто бьет? Над горизонтом от взрывов полыхают зарницы.
К двум часам ночи пришли в Розенталь. Сворачиваем к сахарному заводу и останавливаемся на самой окраине. В 5 утра, как обычно, пишу боевое донесение. Да, здесь тяжело. У фрицев 10 «тигров» и бронетранспортеры, а у нас нет даже «Прощай, Родины». Но ничего. Зато много артиллерии, а артиллерия, как известно, — бог войны.
Лег спать часов в шесть, и снился мне проклятый Михельсдорф, о котором я только что писал в донесении, в котором сейчас наши батальоны, и где сейчас не очень сладко…

23 февраля
Ночь проспал (хотя, какая это ночь? – всего два часа) на ногах у гв. ст. лейтенанта Яковлева и был очень доволен, что мне досталось хоть такое место.
Давно не был в бане, и очень беспокоят «автоматчики». Прямо жить не дают. Ну, и спать тоже. Враки все это, что шелковое белье спасает от них…
С утра правый сосед – 78 гв. стр. дивизия пошла в наступление. Прямо перед нашими окнами стояли и ревели «Катюши» и «Лука Мудищевы». Какая красота! Не завидую фрицам, которые попадут под их огонь, и душа радуется, что они наши, а не чьи-нибудь, не вражеские…
В Михельсдорфе все еще торчат «тигры», а батальоны нашего полка все лежат перед Михельсдорфом. Майор Ковалев, пушки которого поддерживают наше наступление, неистовствует:
— Я им покажу кузькину мать! – и по телефону: – Орудие, изнуряющим, 15 минут выстрел, огооонь!…
Мы смеемся…
Скоро уже вечер. Все идет, как обычно. Часа четыре тому назад «Катюши» сыграли по Михельсдорфу. После артналета батальоны двинулись вперед. Противник, потихоньку огрызаясь, отходит. Сейчас мы пойдем в Михельсдорф. «Тигры» из деревни ушли, но появилось много бронетранспортеров.
Перед обедом нам выдали по сто грамм водки; я выпил на голодный желудок, и меня немного разобрало, развезло. Настроение мрачное. «Что день грядущий мне готовит?» Скоро ли конец войне? Надоело…
Никуда мы не ушли с сахарного. Также сидим здесь. В Михельсдорфе дерутся батальоны. «Перекресток» — это слово в штабе нашем у всех на устах, потому что борьба идет за перекресток.
Ночь прошла спокойно.
24 февраля
Из Михельсдорфа фрицев все-таки выгнали и сегодня бои идут в Квейче. Народу в батальонах совсем не осталось, и я целый день жду – когда меня отправят на передок.
К обеду Сафонов принес почту; есть письмо и мне от Витьки. Он пишет: «Живу на юге Силезии, пью водку, кушаю, но фрау пока не трогаю». Воюет где-то рядом со мной. Написал ему ответ. Надоела война, а когда ей конец – один Аллах ведает.
Вот бы вернуться сейчас домой, побегал бы с девками, а там бы, глядишь, женился. А придется ли? Ведь так недолго быть убитым!..
Во второй половине дня постепенно выжимали немцев из Квейч, Альтенбург. Таким образом окружается Ранкау. Больше ничего существенного, если из этого «существенного» исключить стрельбу, разрывы, смерть товарищей…
Сегодня вечером кто-то сообщил новость: союзники перешли в генеральное наступление и форсировали Рейн на протяжении 90 миль. Турция объявила войну Германии. По поводу наступления союзников немного пошутили, но все-таки были рады – может быть конец войны ближе…
25 февраля
Все эти новости оказались досужей выдумкой кого-то.
… Утром из Розенталя переходили в Квейч. Было тихое утро, солнце поднималось из-за горизонта, птички щебетали. Впереди возвышалась высота 718,0, окутанная туманом. Прекрасный НП немцев. Вовсе не хотелось думать о том, что идет война, что внезапно может прилететь – провизжать мина, разорваться… и нет тебя на свете, и ты ни о чем не думаешь – не мечтаешь и не знаешь ничего. И лежишь ты в грязи, никому не нужный. Идущие обойдут тебя или просто переступят, и прошагают дальше… А думалось об этом…
Но дошли мы до господского двора в Квейче благополучно, и никто нас не обстрелял. И настроение улучшилось… В общем-то, одиночного человека в поле миной трудно взять, уж если только прямое попадание. А так – всегда найдется и ложбинка, и канавка, и бугорок, куда можно ткнуться в крайнем случае…
… А крепко наши отделали Квейч! Все поразвалено – артиллерия поработала на славу! Взять хотя бы этот вот господский дом, в котором мы нашли пристанище. «Фон» тут какой-нибудь жил. Сквозь стены гуляет ветер, вся черепица с крыш струшена. Ни одного целого окна…
До обеда убирали помещение под НП, затем осматривались. Прилетела наша авиация – три самолета – крепко обработала своих, для устрашения так сказать, немцев, но потом спохватилась, и принялась за Цобтен. Все бегали по ямам, матерились все и вслух, и про себя: «Сволочи летчики! Позаложило глаза, что-ли?» Человек десять оказались ранеными; убитых, к счастью, не было. Когда летчики принялись бомбить Цобтен, настроение у всех изменилось…
А тут наступило тревожное время. Появились какие-то неизвестные танки, бронетранспортеры. У нас очень много убитых и раненых. Само командование пошло на штурм Ранкау. В первых рядах пошел начальник штаба полка гв. майор Мальцев. Заместитель командира полка по полит части гв. майор Хряков шел с фауст-патроном наперевес. А фрицев – видимо-невидимо, идет сильная стрельба, и наши дела неважны…
Но потом постепенно все прояснилось. Неизвестные танки оказались нашими. Бронетранпортеры куда-то исчезли. Фрицев в господском дворе Ранкау загнали в подвал дома, а сам дом окружили. По нашей оценке, блокированными оказалось около 150-200 немцев. Ранкау очистили весь.
Фрицы сидели в подвале и не сдавались до утра. Били по ним прямой наводкой из пушек, бросали бутылки с горючей смесью, чтобы поджечь дом – никакого эффекта. Немцы сопротивлялись. А что им оставалось делать?
В бою за Ранкау ранили офицера разведки полка гв. ст. лейтенанта Парфененко в шею, а гв. майора Мальцева — в висок. Но майор остался в строю, и в штаб пришел только вечером отдохнуть. Легли спать, так и не дождавшись, пока фрицев выкурят из подвала…
26 февраля
День начался с дождя. Хмурилось небо, дороги развезло.
Автоматчики привели 58 пленных, захваченных в подвале. У некоторых незавидный вид – грязные, окровавленные, перевязанные… Но, после того, как узнали, что их расстреливать не будут, они заметно повеселели, настроение у них улучшилось.
Мы пошли в Рогау-Розенау. Проходили Михельсдорф, который в основном представлял собой кучу развалин. Много валяется фрицев не только в деревне, но и в кюветах шоссе на Рогау-Розенау, на полотне железной дороги. Лежат фрицы, раскинув руки-ноги, выпучив глаза с разбитыми черепами. Чего им не хватало, сволочам? Ну, и лежите, глядите на холодное небо, и пусть вас размачивает мелкий дождичек, сыплющий из серых туч. Пусть не будет вам ни дна ни покрышки!..
Наших солдат не видно; их уже, очевидно, подобрала похоронная команда.
С грехом пополам в разбитом Рогау-Розенау нашли себе помещение под НП. Убрали его, поставили печь, затопили. Стало веселее жить на белом свете.
Фриц ведет себя неспокойно. Бьет по селу прямой наводкой из танков из района Грунау. Его пушки стреляют из Марксдорфа. У нас есть убитые и раненые. Но славяне – беспечный народ – плюют на все, как говорится. Катаются по улицам на велосипедах, прогуливаются по асфальтовым мостовым – надоела бесконечная глина да земля!..
Сегодня гв. майор Мальцев уехал в медсанбат; вместо него обязанности начальника штаба полка стал исполнять полковой инженер гв. капитан Кравцов. ПНШ-1 тоже новый, прислали из штаба дивизии стажера – гв. лейтенант Шевченко (Калуга, Циолковского, 50). Он мой прямой начальник. А Цымбалов завтра уходит в Розенталь.
Спал на полке, на втором ярусе. Хорошо было, хотя и тесновато…
27 февраля
Днем ничего особенного не делал. Занимался «делопутством», как говорят ребята. Никаких изменений в обстановке не происходит. Мы будто бы остановились, активных действий не предпринимаем. Но в оборону вставать здесь вроде бы несподручно – перед нами, как заноза, торчит высота 718,0 — Цобтен-Берг, прекраснейшее место для наблюдательных пунктов противника. С нее можно просматривать наши тылы, я думаю, минимум на 100 километров. Гора поросла лесом, а на ее вершине какие-то строения. Говорят, что монастырь…
Привели пополнение — 213 человек; полк приводит себя в порядок. Мне бы тоже, воспользовавшись затишьем, нужно привести в порядок свои дела. Вечером кое-как отпросился у своего нового начальника в Розенталь для этого; там у нас основная часть штаба. Шевченко долго мялся, не решался отпустить меня: «А вдруг то, а вдруг сё», — а он новый здесь человек, еще ни в чем не ориентируется. Но я все-таки убедил его, что мои дела тоже не терпят отлагательства. Часа в два ночи вышел из Рогау-Розенау и после часового шлепанья по шоссе пришел в Розенталь. Нашел строевой отдел штаба. И, расстелив шинель на полу в кабинете гв. лейтенанта Анцифирова, уснул…
28 февраля
Привожу в порядок свои дела. Что не нужно – жгу, остальное регистрирую задним числом, подшиваю. Настроение довольно кислое. Надоели эти бумажки вконец, даже в наступлении нет от них покою.
Эх, послать бы все это на …, плюнуть бы на все! А тут еще лезут Шуваевы всякие – черти им схемы захоронения наших солдат. А сколько их!.. – на каждую могилу отдельную схему. Ведь сидят на этом, а не делают, все на Ильина надеются. И что плохо – отказать я не могу. Другой послал бы всех их подальше. А я вот сижу, черчу…
Между делом собрал все свои письма, дневники и сложил все это во вновь приобретенную полевую сумку. Хватит драть карманы. Освободился от всей этой работы уже к вечеру, вздохнул свободнее, пиликнул на чьем-то трофейном аккордеоне раза три. Потом помог гв. ст. лейтенанту Цымбалову сделать кодированные таблицы для шифрования и дешифрования. Вечер прошел тихо и спокойно в мирных беседах с друзьями. Спать лег со спокойной совестью, честно заработанной трудом. И спал спокойно, и ничего мне не снилось…
1 марта
Утром напечатал для Ершова шесть опросных листов и пошёл обратно в Рогау-Розенау на НП. Надоело сидеть в строевом отделе, хотя здесь всего лишь день: уж слишком люди деловые и скучные, а это мне не по душе. У нас лучше – разведчики, автоматчики – ребята весёлые.
В дороге ничего не случилось. Фриц изредка постреливал, но по шоссе не бил, и я благополучно дотопал до НП. Как-то незаметно прошёл день, и я даже писем никому не успел написать, и он был, как все дни в обороне – серый, грустный, пустой и долгий…
2 марта
Сидим в Рогау-Розенау, переходим к жесткой обороне, и поэтому с утра меня засадили за разные схемы и прочее. После того, как написал донесение, и его отправили, взялся за свои дела, в частности – стал перечитывать старые письма. Разное они производят впечатления на меня. Например, Володькины (младшего брата – прим). Точно такое же возвышенное было у меня настроение в те дни, когда я отправился в армию. А потом вдруг такой неожиданный удар и разочарование. И мне жаль становится его, читая его письма – его ожидает то же самое. Кстати, сегодня я получил от него открытку. Пишет, что служит в артиллерии, и находится в Саратовской области на ст. Татищево.
Или письма из госпиталя 5113. Читая их, видишь перед глазами госпитальные дни, и как кадры кинохроники проходят перед моим мысленным взором день за днем, день за днем. Встаёт образ СМНК, его прекрасная, неподражаемая, лукавая улыбка; вспоминается Сашка Смирнов – морда с веселыми хитрыми глазами, украшенные «окулярами»; встаёт Колька Шмыков – грустный и задумчивый…
Письма Витьки Петрова – умные, легкие, весёлые. Читая их, вспоминаю детство; так же, как и от Тамариных писем…
… Вечером подошёл ко мне Ершов и спросил: жалею ли я, что остался тогда, в январе, в оперативной части? Я прямо не ответил, но что-то такое, вроде «не жалею», пробормотал. А про себя подумал:
— Нет, не жалею…
В общем-то, конечно, работа здесь мне нравится. Всегда находишься в курсе событий; сюда поступают все сообщения батальонов и приказы из дивизии, так что всё узнаешь первым. Потом мне нравится чертить схемы, выкопировки из карт, писать боевые донесения – и это у меня, наверное, получается. И коллектив хороший – офицеры, солдаты; относятся ко мне хорошо. Бывают, конечно, и плохие периоды жизни. Вот это вот однообразие в обороне, мрачное настроение, вызываемое различными причинами. Но где его не бывает? Так что нет, не жалею, что я в оперчасти.
3 марта
Сегодня Ершов сфотографировал меня с Бойко, но я думаю, что фотография не получится. Ведь говорится: «Тухман сын тухсан таман тухать тет».
Весь день было мрачное настроение. Скорее бы вздернуть Гитлера на виселицу – было бы веселее. Не могу себе представить конца войны. Это будет невероятный день, наверное. Доживу ли я до него, увижу ли этот день? Хочется увидать, хочется дожить. Но я на войне, где не месяцы, недели или дни, а часы, минуты, а иногда даже секунды решают вопрос жизни или смерти. У меня нет почти никакой надежды на то, что я останусь жив, а та, что есть – небольшая, совсем крохотная, которая скрыта глубоко-глубоко, где-то в самом уголочке сознания…
Прибыл новый начальник штаба полка гвардии майор Иванов.
4 марта
Привели пополнение, среди которого я встретил Сашку Калачева. Он прибыл из госпиталя, куда успел попасть уже второй раз. Скупо рассказал о своей госпитальной жизни: «Капуста, капуста и ещё раз капуста», — это так их там кормили. Он очень невесёлый. Да с чего ему веселиться-то? Я отлично понимаю его положение; у него впереди две дороги – или в могилу, или ещё раз в госпиталь. Долго сидели с ним, вспоминали дни, когда вместе лежали в госпитале. А затем простились. Я как-то почувствовал, что видимся мы с ним в последний раз, что его ожидает что-то страшное. Да только ли его? И меня так же… но я пока остаюсь в полку, в штабе, а его направили в батальон, а там известны какие шансы в батальоне у солдата-стрелка… Сашка ушел, махнув мне на прощанье рукой…
День прошел монотонно и скучно. Спать лег поздно…
5 марта
Вместе с гв. лейтенантом Шевченко и другими товарищами из Рогау-Розенау собираемся идти в Бергхоф Монау. Подготовку начали с утра, но пока собирались, я успел написать письмо Кольке Шмыкову в госпиталь.
Вышли часов в 12. Погонял нас в тот день фриц. 10 километров показались нам тридцатью. Рвались на шоссе, ведущем в Вернерсдорф, шрапнель и мины. Пехота, рассредоточившись, бежала за бугор у Протшкенхайн. Я с Шевченко шел отдельно от всех и с улыбкой наблюдал за ним. Он первый раз на фронте и первый раз под артобстрелом. Летит мина или снаряд далеко, и я уже по звуку слышу, что будет недолёт или перелёт, что разорвётся справа или слева и стою, а он уже лежит между грядами и спрашивает – почему я не ложусь? Ведь убьёт сейчас!.. И если бы не напряжённость обстановки, я бы хохотал над ним, а тут – бурчал себе под нос:
— Недолёт! Не стоит ложиться!..
8 марта
Тоскливо что-то на сердце. И тяжело что-то. Всё что-то не по-хорошему, и солнце что-то не так светит, и снег не так идёт… В природе тихо, светло и тепло, но всё какое-то зловещее… в голову лезут мысли – что-то со мною должно случиться. Чего-то я предчувствую, и будто свет не для меня скроен. Наверное, стукнет где-нибудь скоро. А умирать то неохота, ох, как неохота умирать!..
Получили приказ на оборону, и с 5-го марта стоим здесь в селении Бергхоф Монау. Начались инженерные работы – траншеи, хода сообщения и прочая такая ерунда. Мобилизуются все силы на них. Сегодня и я пойду.
… Целый день вспоминаются беззаботные госпитальные дни. А с чего? – сам не знаю. Не от того ли, что я весь день и вслух, и про себя пою песню «Морячка»?.. Сильно соскучился по всем – Зое Гафуровой, Маше Алексеевой, Ане Даниловой, Петру Яковлевичу, Сашке Смирнову… И по маме с папой. Вот бы сейчас домой! Да не знаю, придётся ли вообще попасть туда…
14 марта
Хотелось многое записать; ведь столько дней не мог взяться за дневник, очень занят был, а вот сел, и всё из головы вылетело.
Потихоньку идут дни, и надоело всё – никаких сил нет.
Чтобы хоть немного скрасить свою жизнь воспоминаниями вчера и позавчера в свободное время перечитывал записи, сделанные в госпитале и в АЗСП 214. Перечитывал и удивлялся – как я изменился за прошедший год. Например, взять хотя бы запись «я не могу ругаться, курить, врать и, главное, несмел по отношению к девушкам». Теперь я улыбаюсь, читая эти строки. Сейчас я ругаюсь как сапожник, мат постоянно висит у меня на губах. И я сейчас, глядя на себя глазами того, каким я был дома, лишь диву даюсь – как это я могу загибать такие ругательства, с таким переплётом слов, с таким смыслом. Когда и где я этому научился – сам не могу понять. В счет не идут слова-одиночки, их слишком много слетает с уст моих, и они мне представляются самыми обычными словами. И речь без них не клеится, она какая-то неуклюжая, хилая. Правда сказана: «Русский язык без мата, что справка без печати». И я ругаюсь, матерюсь, не стесняясь присутствия «баб», хотя эти «бабы» сами не хуже меня загибают речь…
Мало этого. Я научился брехать, как самый последний пёс. Обыденные, рядовые события, если я расскажу, будут выглядеть как ярчайшие картины. В нашем деле без прикрас нельзя. А прикрасы – это и есть брехня. Раньше я не мог обманывать, а сейчас, если, конечно, захочу, могу и обмануть, обвести вокруг пальца. Пропала несмелость и по отношению к девчатам.
Вспоминая прошлого Борю мне иногда становится жаль его. Никогда уже мне таким не быть и ничто меня не исправит. Разве только могила, которая не очень-то далеко стоит от меня и смотрит, улыбаясь – скоро ли? Добро пожаловать!..
15 марта
Прекрасный день сегодня! Голубое высокое небо, солнце немножечко припекает. Природа ещё дремлет. На улицах сухо. Так красивы те вон домики, далеко на горке! И если бы не черный клубочек шрапнели, повисший над головой, лежащая с раскинутыми ногами корова в кювете, черный обгоревший танк с башней, лежащей рядом, на обочине дороги – о войне и не вспомнил бы.
А какое хорошее настроение после велосипедной прогулки, которую я сейчас совершил! Ещё не остыла в жилах кровь, и я ещё возбужден – почерк не ровен, рука дрожит. Как хороша жизнь! И как не хочется терять её, особенно в такой день! Хочется делать всем хорошее-хорошее. Хочется увидеться с друзьями, выпить, посидеть, поговорить. Хочется написать Тане хорошее-хорошее письмо. Хочется дожить до конца войны, жениться на хорошей девушке и хорошо прожить всю жизнь… Но меня, кажется уже занесло куда-то не туда…
Итак, сижу и пишу. И настроение хорошее, и всё прекрасно. По улицам Бергхоф Монау шляется солдатня, катается на велосипедах. Сияет солнце, и ясна голубая даль…
Да, будто бы всё хорошо, всё прекрасно. Но, нет!.. До хорошего и прекрасного не хватает одного. Идет война и не хватает её конца…
16 марта
Сейчас получил письмо от Тани. Удивительный она человек. Ни разу не видел её, а будто бы знаком с ней с детства, как с Тамарой. И такие она письма пишет теплые, уютные и какие-то родные. После них становится легко на душе, весело, хорошо. Очень хочется познакомиться с ней лично, увидеть её, отблагодарить, пожать руку за то, что столько унылых минут в моей жизни она скрасила…
(К слову сказать, Таня оказалась «заочницей», то есть одной из тех девушек, которые просто так писали письма на фронт разным солдатам, чтобы скрасить их фронтовые будни. Уже после войны, отправив очередное письмо Тане, – дед получит ответ от ее мужа, который и разъяснит ему всю эту ситуацию. Насколько я поняла из дедовых воспоминаний – закончилась эта история без взаимных обид — прим).
18 марта
Сегодня сфотографировался у Ершова. Морда моя, по-моему, получилась довольно глупая, постная и скучная. В компании были лейтенант Басалыгин, Нина Коболова, Аня Заборских, Федька Шуваев и Кобелецкий. Негатив ещё не готов, и я даже не знаю, вышло ли чего-нибудь. Если всё нормально, то первую фотокарточку — домой. Но вот мне необходимо ещё сфотографироваться одному, чтобы послать фотографию Тане. Она давно просит, ждет, но как это сделать – сняться без «примесей». Попросить Ершова, что ли? Думаю, что сделает.
Все идет по заведенному порядку, и нового ничего нет…

19 марта
Видел во сне чёрт знает какую чепуху, но после неё почему-то стало хорошо на душе. Получил будто посылку от Тани. Распечатываю и вытягиваю альбом с фотографиями рядовых и сержантов, у которых вся грудь завешана орденами и медалями. И к каждой фотографии – описание всех боевых подвигов, которые совершил данный товарищ. Досадно мне стало. А чем я могу похвалиться? Одной медалью?
А дальше идут фотографии девушек, но которая из них — Таня, я при полном усердии в просмотрах фотографий, не угадал… Вот она!.. нет, вот эта…
… Ершов показал негатив с «гоп-компании». Боже мой, какой же я по сравнению с остальными огромный. Никогда я про себя не думал, что я такой величины. Будто влез в детский сад, а не среди солдат стою. Теперь я понимаю Кольку Шмыкова, который при нашей встрече 31 декабря прошлого года сказал мне:
— В твоей фигуре чувствуется львиная сила.
Мы вспоминали с ним нашу драку в синагоге Кировограда… (Драка условная. Просто два молодых оболтуса договорились помериться силой и отправились в здание разрушенной синагоги, чтобы не попасться никому на глаза – прим.)
Письма получаю редко. Сказывается то, что во время наступления я не мог писать никому, времени не было. А теперь вот нет ни от кого ответных писем. А без них скучно. Особенно одному. Ведь всё-таки здесь у меня нет близкого друга, с которым можно было бы поговорить обо всем, отвести душу. И домой хочется…
Неужели мне не суждено вновь увидеть родных и дом? У меня какое-то предчувствие своей смерти. Как это я чувствую, чем – я не могу объяснить. Так мне кажется. И кто будет читать этот дневник после моей смерти, пусть скажет, что я ошибся. А читать-то его кто-нибудь, наверное, будет, иначе зачем мне его писать? А прочтут – и сожгут. Кому он нужен?..
Я, кажется, уже дописался чёрт его знает до чего. Лучше бросить…
20.00. сейчас пришел с американской картины «Песня о России». Картина замечательная, хорошая картина. Хороши и Надя, и Джон Мередит. Удалась американцам эта картина, так же как и «Битва за Россию». Будет теперь о чём вспоминать несколько дней… Не выскажешь всего, что на душе творится – беден язык!..
20 марта
Берусь за дневник, когда меня охватывает отчаяние. А вот нет, чтобы писать утром, после того, как проснулся, и ещё как следует глаза не продрал и не присмотрелся к миру через стекла своих очков. А это ведь не одно и тоже – видеть всё своими глазами, а не через очки. После того, как их поносишь долго, посмотреть на мир простыми глазами – так здорово! Как хорошо кругом, как красиво!..
Так и с записями этими. Записываешь тогда, когда в этот день уже вжился, когда сложится определённое настроение. А вот утром, когда только что вступил в сегодняшний мир, когда в сегодняшнем дне для тебя всё ново, когда ты не отошёл ещё от виденных ночью снов и настроение у тебя приподнятое – тогда никогда не приходится писать.
И сегодня. Во сне Надю эту видел, из фильма «Песня о России». А проснулся, походил, поделал всякие дела, и всё очарование её образа как-то померкло, мир снова начал рисоваться передо мною в темных тонах…
21 марта
Сегодня получил выписку из приказа №03/н от 20.02.45 о награждении меня медалью «За боевые заслуги». По сему случаю купил колодку медали и надел её на себя…
… От прежнего Бори, сидевшего во мне, кажется, ничего не осталось. Вчера в военторге купил трубку, и решил начать курить…
23 марта
Ерунда всё это. Курить бросил. Не стоит учиться этой пакости. Ещё чахотку схватишь, подохнешь… Конечно, если раньше тебя не ухлопают.
Жизнь течет скучная-скучная…
(По иронии судьбы дед действительно перенес туберкулез, но не на войне и не от курения, а в мирное время по окончании университета – подорвал здоровье скудным питанием и повышенными учебными нагрузками, но это уже другая история – прим.)
25 марта
Сегодня показывали кинофильмы «Свадьба» и «Антоша Рыбкин». Ох, надоела эта жизнь! Ни любви, ни радости, ни счастья, чёрт возьми!..
Опять сфотографировался у Ершова. А будет ли толк?..
27 марта
Наконец-то после долгого молчания получил письма от папы и мамы. В общем, я их что-то не пойму; особенно папу. Мама пишет, что он хочет «отмежеваться» от неё, пишет «ваш отец», «был у нас» и т.д. Что это им не хватило, что это они не поделили на старости лет? Ничего не понимаю. Жили вроде бы тихо и спокойно, ан нет! – не поладили…
Значит, нет у нас сейчас единой семьи? Своей семьи? И не соберемся мы более за одним столом, как бывало? Все разошлись по разным сторонам, все живут по себе… Серафим – давно вдали от родителей; Пава – умерла, я болтаюсь где-то по Германии, а Володя в Саратовской области. А сейчас вот папа переехал в Белое Озеро. И осталась одна мама с Женькой в Хормалах, да там же могила безвременно ушедшей Павы. Распалось родное гнездо, которое родители строили в течение всей своей жизни и прочнее которого, казалось, ничего не было на свете; особенно вечерами, когда все мы вместе собирались дома. Я играл на гитаре, мама и мы пели, Женька хохотала, было тепло и уютно. А теперь? Нет ничего. Родное гнездо развалилось, нас судьба, как оперившихся птенцов – вынесла из него на волю. А от гнезда остались лишь жалкие обломки.
Вот так же будешь жить, женишься, дети пойдут – будешь их лелеять и заботиться о них –будет тоже тепло и уютно. И вдруг — удар судьбы – ничего нет, всё разлетелось, пусто и холодно… печальная картина. (К счастью, после войны родители деда помирились, встретили сыновей с фронта, и прожили вместе до самой смерти – прим.)
Написал и папе, и маме. Ершов сделал фотографии; я послал по одной из них обоим. Написал письмо и послал фотографии Симе (старшему брату – прим.)…
Я ничего не писал вчера. Не о чем было. Послал письмо со своим «портретом» Тане в Туринск. А вечером показывали кинофильм «Ураган». Очень понравились и Мерама, и Тэранги…
28 марта
Весна… месяц тому назад сошёл снег с полей, уже давно ласково светит солнце, и давно всё кругом подсохло. Конец марта. Деревья распускают почки, а в жилах играет кровь. И луна ночью большая, светлая луна. Ветерок на улице… и настроение весеннее. Неохота сидеть, согнувшись за столом. Сейчас бы в зелененький сад да на темненькую аллейку, подальше от людей и громкой музыки. Сидеть бы на скамеечке с кем-нибудь, плотно прижавшись друг к другу, шептать: «Милая…» Обжигать друг друга поцелуями, сжимать в объятьях…
Но ты один, и пусто, тоскливо на душе… И тоскливо светит луна, ей тоже, по-видимому, скучно. И не видно нигде пар, не видно парней и девушек… Хотя весна, хотя в жилах волнуется кровь…
Сегодня после обеда прогулялся по роще. Хорошо там, но скучно одному. Вот бы хорошую девушку сюда, сели бы рядышком и говорили, говорили бы с ней… Вот бы кончилась война поскорей… Но… «мечты, мечты, где ваша сладость?».
29 марта
Сегодня в 6.30 пришел из батальона Петушок и принес донесение. Вместе с ним он вытащил из полевой сумки красноармейскую книжку. Машинально я взглянул на нее. На обложке значилось: «Убит в районе высоты 198, 0». «Убит»… Мне привычно это слово. Но тут почему-то оно привлекло мое внимание. Убит. Кто?.. Когда?.. Я взял книжку и стал листать ее, и сразу же наткнулся на фамилию «Калачев Александр Петрович». Сашка! Я не понял сразу, да и сейчас до меня не доходит… Сашка убит. Друг дорогой, неподражаемый, неповторимый!.. Кто мог предполагать, знать, что 4-го марта мы видимся с ним последний раз, что осталось ему жить с того дня только три недели! …Помню его последний, прощальный взмах рукой, когда он уходил в батальон. А их батальон вчера участвовал в разведке боем… Эх, Сашка, Сашка!..
Нужно написать его матери о его гибели в Ростов, оказать последнюю услугу. Но как это сделать? – эта весть убьет ее!..
Все мы вот так вот скрючимся и ляжем в мать сыру-землю сегодня, завтра или послезавтра… Мне, очевидно, тоже скоро каюк…
30 марта
Вчера получил два письма от Тани, от мамы и Жени. Танины письма очень обрадовали; они такие теплые, хорошие, что стало как-то легче на душе. Мама пишет о своей жизни, и ничего там радостного у нее нет. Женя…
31 марта
… Отвлекли по делам и не успел дописать вчера… Так вот, Женя (племянник, сын покойной сестры Павы – прим.), пишет: «зажег спичку и бросил на постель. Живем плохо. У меня украли пальто и лыжи…» Ему будет уже восемь лет, большой уже… Женькино письмо читали все.
Вчера же всем ответил.
Встретил двух земляков. Максимов – старший лейтенант из Марпосадского района, едет домой на побывку. И лейтенант Долгов – из Канаша.
АПРЕЛЬ
2 апреля
Пропало всякое желание здесь работать: сегодня прочитал приказ, по которому меня отсылают в 1-й стрелковый батальон. Всё. Хватит, повозился с бумажками, пора идти на свое место, воевать. Муторно стало на душе: не придется увидеться с Таней после войны, да и конца войны мне уже не видать. Предчувствую, а предчувствия меня никогда не обманывают. Что ж, пусть будет так, раз так подсказывает судьба. Последую вслед за Сашкой; нам уж суждено быть вместе…
Всю ночь не давали спать – привели пленных фрицев и таскались с ними.
Привезли кинофильм «В шесть часов вечера после войны». В 17.00 пойду, посмотрю его. Хоть Таню вспомню – она недавно смотрела эту картину, ей очень понравилось. А вспомню ее, и на душе может быть легче станет, веселее… Эх, мать честная!..
21.00. Смотрел картину. Во! – замечательная, особенно конец. Недаром Таня хвалила ее…
Неохота ни за что браться. Видеть не могу этот стол и ящик, забитый бумагами. Уж скорее бы в батальон, а там – или продолжать жить или лететь на землю с разбитой головой. Уж все равно!..
4 апреля
Вчера смотрел кинокартину «Серенада солнечной долины» — американская. Хорошая картина! Сколько огня в ее героях!..
По-прежнему сижу в оперативной части. В батальон почему-то не гонят, а по сему случаю гв. ст. лейтенант Павлов требует опять чертить ему схемки. А наплевать мне на все эти схемки. За что ему их делать? Пусть сам пыхтит над ними! …
6 апреля
Сдали свой участок обороны 538 сп 120 сд 21 армии, которая пришла сюда откуда-то с юга. По этому случаю вчера целый день писал акты приема и сдачи участка обороны, схемы чертил и прочую ерунду делал. Ночь проспать спокойно не удалось, оторвал лишь небольшой кусочек от нее. Утром отправил в штаб дивизии с Багаевым акты, а сам с Ершовым, Цымбаловым и Петушком на велосипедах поехали в Фюрстенау. Было хорошо, солнце еще не взошло, туман поднимался с земли, на передке ни единого выстрела. Свежо, холодок бодрил. В природе – тишина и спокойствие.
Без особых приключений доехали до Метткау, а затем и в Фюрстенау. Устроились хорошо, но пребывать здесь будем не долго. Сейчас состоится строевой смотр, а потом куда – неизвестно. Вероятнее всего на правый фланг фронта. С месяц прозанимаемся как в Волице на Сандамирском плацдарме, а затем снова прорыв обороны немцев и «дранг нах вестен», на Берлин!
Чувствую себя хорошо. В этой деревне много немок – фрёйлен и фрау, и в голову приходят «грешные» мысли…
Перечитываю письма Тани. Я, кажется, уже влюбился в неё заочно. Уж прислала бы поскорее свою фотографию, не терпится увидеть ее…
12 апреля
С 6-го по 10-е совершали 40-50 километровые марши – ночные – из Фюрстенау пришли сюда, в район деревне Чибодорф. Прошли около 150 километров. Стоим в 8 километрах от города Заган на берегу реки Бобер. О путевых впечатлениях нечего писать. Темные ночи, бесконечные дожди, зверская усталость, сон на ходу, утерянная пилотка, боль в коленке (по-видимому какое-то растяжение) – вот и все впечатления. Марш, как и все марши, был не особенно приятным, но ничего!.. Мы привычные.
Здесь построили себе шалаш-землянку; я получил новую пилотку, и вот сижу, пописываю. Работать особого желания нет, жду указания идти в свой родной 1 ст. Лейтенант Шевченко клянется всеми богами и чертями на свете, что я переступлю порог оперативной части только через его труп.
А он мужик ничего, хороший. Не воображает из себя какого-то… Простой; но опыта работы здесь еще не приобрел. Ведь мы стояли при нем все время в обороне. А начнется наступление? – совсем зашьется… Я уж его всегда, во всех случаях выручаю, и он во всем опирается на меня. Я скажу: «Не надо так делать, хуже будет», — он соглашается. Скажу: «Сегодня нужно сделать это», — он отвечает: «Верно». Я его еще ни в чем не подводил, и он знает, что я не подведу и впредь. Зато и я знаю, что ему можно доверять, он тоже надежный человек. И живем мы с ним – во! – на большой палец! Посылал бы Бог людям побольше таких начальников!..
Получил письма от мамы, Жени и Тамары. Сегодня ответил всем…
13 апреля
Ездил на велосипеде в Заган – посмотреть, что за город, а по пути найти где-нибудь одеял, в которых так нуждаюсь. Хожу в телогрейке, а ночи холодные, и её на всё – и подстелить, и одеться – не хватает. Свою знаменитую «кавалерийскую» шинель доставать из повозки нет охоты – уж очень она рваная и грязная…
… Городишко ничего себе. Разрушений мало, и лишь в районе завода побита черепица на крышах, да стекла в окнах домов. Раздобыл три одеяла, а потом катался по городу, осматривал. Когда я стоял у одной разваленной стены, подошел ко мне один немец-старик и начал что-то объяснять, тыча пальцем в неё. Это первый немец, который заговорил со мной. Но я с ним не вступил в рассуждения, а оборвал: «Нихт ферштеен», — не понимаю, мол. К чему мне его объяснения? Без него вижу, что это «Лука Мудищев» сделал. А с немцами я не только говорить, но и видеть их не хочу. Сволочи они все. И этот, наверное, переодетый фольксштурмовец.
Вернувшись домой (а для солдата где кухня, там и дом), рассматривал карту боёв за истекшие сутки. Союзники здорово жеманули – на Берлинском направлении вышли аж на Эльбу. Вообще-то и у нас всё готово для наступления. Ещё один ударчик – и конец…
Мы будем наступать где-то в районе города Мускау на Нейссе. Но фронт прорывать будем не мы, а польская армия. Мы пойдём пока во втором эшелоне.
… Сегодня сообщили, что умер президент США Франклин Рузвельт. Жаль, неплохой был парень…
14 апреля
Ночью уходим в район Мускау. Скоро, очевидно, будем прорывать оборону немцев. С утра собрался, на прощанье написал письмо Тане.
Велосипед достал, лишь отойдя километров 8 от Чибсдорфа. После этого оставалось только нажимать на педали и птицей нестись вперед. Кое-где этому мешал песок – вязли колеса. Ночь наступила тёмная. Нас собралось четыре человека «тёплой» компании: я, Ванька Барамба, Лёнька и какой-то «кореш» из 23 госпиталя.
Решив, что до пункта назначения можно доехать и утром, незачем мучиться всю ночь, мы завернули в Нидер-Улендорф и легли спать в каком-то доме. Под двумя перинами было очень тепло…
15 апреля
Просыпались раза два – в 5 и в 6 часов, но, по общему желанию «полежать ещё», засыпали снова. Часов в 7 выехали из Нидер-Улендорфа. Утро было холодное, потягивал свежий ветерок. Из-за леса поднималось красивое-красивое солнце и небо, с раскинутыми по нему завитушками облаков, становилось светлее и светлее. Мир просыпался.
После долгих мучений на песчаной дороге выехали на автостраду Бреслау-Берлин, прямую, как стрела. Я потом смотрел на всех имевшихся у нас топографических картах – этой дороги не было; очевидна она была построена совсем недавно.
По асфальту неслись быстро. Шли, обгоняя нас, на запад танки, автомашины со снарядами для «Лукаш».
Заворачиваем в Грефенхайн, едем по его улицам. И вдруг я вижу на столбе вывеску с надписью «Хозяйство Пустовойтова». Ещё чуть дальше – знакомая морда Сашки Смирнова, сияющая своими очками, и высокая, длинная фигура Долгова. С велосипеда меня будто ветром сдувает. С радостным воплем: «Сашка!» — я бросаюсь к ним. Но задерживаться около них нет времени. Мы и так уже опаздываем, и мне определённо будет вздрючка от лейтенанта Шевченко. Спешно перекусываю что Бог, то бишь, Сашка, послал (а послал он сладкого чаю с хлебом), перекидываемся с ним парой-другой слов, узнаю, что СМНК в госпитале нет – его выписали – и «погоняем» с братвой вперед.
Полк находим в лесу. Написав боевое донесение и выслушав два-три ворчливых слова лейтенанта Шевченко, отпрашиваюсь у него в госпиталь. Здесь встречаю Аню Данилову, майора Зуева и других. Вижу своих «корешей». Незаметно летит время. Помогаю устраиваться Сашке и в 2 часа уезжаю к себе в лес. И вот, лежу, записываю всё…
Если сегодня не уйдём отсюда, то завтра опять съезжу в госпиталь.
Привезли кинокартину «Большая земля». Я её уже видел. А позавчера показывали «Ивана Грозного».
Часов в 19 принесли топографические карты и боевой приказ на наступление. Хотя чисел не было указано, но я понял, что завтра начнётся прорыв. А почему я так много знаю? Всё знаю… Интуиция, что ли? Сопоставление различных явлений, случаев и пр.? Самому не понятно. Разведчики уходят за языком, мечтают поймать такого, как я. Об этом они постоянно говорят мне: «Вот бы такого привести, как ты». Но им почему-то такой никогда не попадается… Я, кажись, уже расхвастался…
А пока… пока делать нечего, склеиваю карты, наношу на них обстановку, линии разграничения и так далее. Работа крайне трудная при моём теперешнем положении – работаю на земле, считай. Ни столов, ни стульев и, вообще, ни хрена…
Уехал из полка командир полка гв. подполковник Ороховатский, Герой Советского Союза. Героя ему дали за то, что полк первым вышел на государственную границу Польши и Германии. Вместо него назначен и прибыл гв. подполковник Штыков. Молодой, говорят, что только что из академии. Вечером всё-таки сходил, посмотрел картину «Большая земля». Понравилась.
Ночь переспал в палатке связистов, влез к ним нелегально. Но всё равно замерз. Спал тревожно, раз десять просыпался, боялся проворонить начало артподготовки. Всю ночь сильно стреляли, но это была не она…
16 апреля
В 6.15 начался характерный рёв «Катюш» и «Лука Мудищевых». Земля дрогнула под ногами. Началась артподготовка. Даже вдали от передка – а мы стояли в десяти километрах от него – стоял такой грохот, что поневоле задумывался, а что же делается там, на Нейссе? Перед глазами невольно вставала артподготовка на Сандомирском плацдарме, но здесь она была гораздо сильнее.
До 12. 00 писал боевые приказы и прочие документы, сигналы, наносил на карты обстановку. Видеть не хотелось эту проклятую, нудную работу. Лишь в 12.00 удалось вырваться в Грефенхайн проститься с друзьями. Туда ехал на велосипеде. К величайшей обиде, заднее колесо спустило, и я проклинал всё на свете, продвигаясь черепашьими шагами вперед.
По шоссе на запад неслись бронетранспортёры, автомашины, а на восток тянулись первые раненые: пешком, на повозках, на машинах. В воздухе ревели самолёты.
Наши уже форсировали Нейссе. По словам раненых, 13-я гвардейская дивизия уже вся переправилась на западный берег; сейчас переправляются танки и артиллерия.
… В госпитале из друзей никого не встретил – все были заняты; ведь уже поступали раненые. Видел только Митьку Черябкина, пожал руку на прощанье лаборантке Ане Гальченко и медсестре Тосе Ильиной. Назад ехал на машине с Борисенко. Сейчас вот пообедал. Полк строится, готовится к маршу на запад.
День стоит солнечный, хороший-хороший. В небе — ни тучки. Зеленый лес шумит листвой, и высоко над ним кружатся самолёты…
В 16.00 начался последний марш, по-моему, на запад. Шли лесом. Клубами поднималась пыль из мерно шагающих ног пехоты, набивалась в нос, горло, глаза. Туго набитая дневниками, письмами и прочими бумагами раздутая полевая сумка и «машиненпистоле» давили плечи, две лимонки в карманах штанов били по ногам, мешали идти. А глаза успевали замечать, что творилось по сторонам. Высоко в небе висел аэростат. Солнце, идущее на закат, тускло, будто через закопченное стекло, светило сквозь пелену пыли и черного дыма, поднимающегося на западе и охватывающего полнеба. Далеко грохотала война. Мы подходили к переднему краю, к Нейссе. Очень много раненых. Очень много лежит трупов лошадей…
Навстречу нам на восток едут санповозки и санавтомобили с сидящими и лежащими в них солдатами, обмотанными окровавленными бинтами. Смотрят на нас, идущих на запад, мутными глазами – молчат. Мы тоже молчим… Расстегиваем ворота гимнастерок, которые нас душат. Жарко… Пыльно… Мало своей пыли, которую мы выбиваем ногами своими, так и обгоняющие нас автоколонны, танки швыряют эту проклятую пыль прямо нам в глаза…
Вечером останавливаемся на берегу реки Нейссе. Копаем щели – мы стоим в полукилометре от переправы, и постоянно налетают «мессеры», бомбят переправу. Вместе с комьями земли летят к небу куски мяса.
Устраиваемся на отдых. Жадно ловим сведения о боях первого эшелона. 13 дивизия на том берегу ведёт упорные бои. Фрицы, ожесточенно сопротивляясь, пятятся назад. Захвачены пленные, их ведут в тыл.
С Петушком ходили в деревню, за соломой. Подрался там с часовым, жалко ему, подлецу, соломы было. Точно как собака на сене – сама не жрёт и другим не даёт.
На шоссе до черта техники: укутанные брезентом «Катюши» и «Лукаши».
Спать лёг на соломе, которую всё-таки принес. Замерз не очень. Ночь была тёмная очень…
17 апреля
Разбудил лейтенант Шевченко – писать донесение. Написал, отправили его в штаб дивизии. Сходил позавтракать. Там идут рассуждения о том, будто бы спросили у одного нашего солдата, раненого, прибывшего с передка:
— Есть пленные?
Он ответил, будто бы:
-Нет, артподготовка была очень сильной, поубивали всех. Если б её не было, то много бы было…
Сейчас лежу у костра, пишу. Таня вспоминается, Тамара. Домой охота, да придётся ли? Такая война жестокая идёт… Убьют где-нибудь, и буду валяться под забором или в кювете…
До обеда спал и спал. Пообедав, крутился по лагерю, а потом прилёг к связистам – там ребята знакомые – Семёнов-телефонный (в отличие от Семенова-радиста) и другие – поболтали о том о сём. Около 19.00 объявили построение. Стали собираться, выстроились, вытянулись и пошли на переправу.
Кругом творилось невообразимое – дороги были забиты, и один мост не мог пропустить на тот берег всех желающих. Километр пути прошли за один час. Продвинувшись метров на 200, останавливались, все валились на дорогу и засыпали. Темнело, в небе скапливались тучи. Пахло гарью. По лесу стелился дым, и метров за 100 ничего не было видно. Над лесом летал «старшина фронта» — «кукурузник». Было чуть-чуть жутковато двигаться так, как мы двигались. С минуту на минуту ждали рёва «мессеров», воя бомб. И думалось: влепят сейчас в голову, и разнесёт тебя на куски!..
Бегом пробежали мост через Нейссе. Западный берег был окутан огнём, горели деревни, леса. В воздухе стоял запах гари и жареных кирпичей, горелого масла. Было трудно дышать от этого запаха. Глаза слезились от дыма. Ветер раздувал пламя и пепел, небо было окрашено в багровый тон. Багровые фигуры солдат, автомашин, танков – шли вперёд. В голове и мыслях повторялось:
— Вот она, Германия!.. Довоевалась!..
Капал редкий дождь. Было душно…
Часов около 5 утра добрались до какой-то рощи, в которой расположились на ночлег. Петушок забрал свою палатку, которой я временно пользовался; пришлось ложиться на мокрую землю в гимнастёрке, а телогрейкой одеваться. Было очень неуютно, но усталость брала своё, и я уснул. Но ненадолго…
В 6 часов прозвучала команда:
-Тревога!.. В ружьё!..
Бухают близкие разрывы. Со сна трудно разобраться, где и что творится. Кое-как собираемся. Меня бьёт озноб.
Двинулись на Эммлиц…
18 апреля
Уже было светло, когда мы его проходили. В деревне не было ни одного целого дома, и огромные воронки на дороге мешали нашему движению. Валялись трупы животных. Пройдя Эммлиц, остановились в лесу западнее него на два километра. Разместились…
Написав утреннее боевое донесение и ополоснув лицо водой из ручья, вновь завалился спать. Проснулся как раз к обеду, к 15.00.
По небу над нами эшелонами проходят «Петляковы» — бомбить немцев. Так же поэшелонно возвращаются. Иногда их преследуют фрицы, которые, однако, не долетая до нас, разворачиваются обратно. Но один фриц, вырвавшись вперед, не стал возвращаться, а начал, пристроившись в хвост, подкрадываться к нашему «Петлякову». Последний не замечал. Хотелось крикнуть:
— Смотри, сукин сын!..
Но поздно!.. Трассы немецких пуль впились в «Петлякова», он загорелся. Выпрыгнули три лётчика, но один из них слишком рано раскрыл свой парашют. Он зацепился за стабилизатор, и полетел вниз вслед за дымившимся самолётом. Мы молча проводили его глазами, пока он не скрылся за лесом.
Фрицы упорно сопротивляются. Цепляются за каждый кустик, за каждый дом. Даже удивительно. Такая была мощная артподготовка!.. Ещё надеются на что-то…
После обеда был концерт. Неважненький. Писем сегодня ни от кого не было. Вчера ответил на Симину открытку, а также написал письмо Александру Ивановичу Пашкину – брату Симиной жены Тани. Александр Иванович — артиллерист, воюет где-то недалеко от меня. Позавчера, кажется, получил письмо от Алешки Прохорова, но ответить ему ещё не успел. Написал и отослал письмо Тане Чапышевой.
Уже стемнело. Пойдём ли сегодня куда или нет, пока неясно. Поживём – увидим…
… Нет, не пришлось нам сегодня поспать на этом месте. Вновь прозвучала команда «В ружьё!..», и пришлось собираться, проклиная всё на свете, поминая всех чертей за беспокойные ночи, и тащиться дальше. Всё было как обычно. Запад так же окрашен кровавым заревом, колеблющимся, принимающим самые причудливые очертания. По тучам, сгустившимся к ночи, лазил луч прожектора, бегал по ним как солнечный зайчик от зеркала по стене. Я по-прежнему шёл в рядах связистов. С полдороги присоединился к Ершову и Шуваеву, которые шли, рассуждая о «делах давно минувших дней», — о своих первых впечатлениях в армии. Я в их беседу не вмешивался, а шёл, слушал и мотал на ус. О чём мне с ними было говорить-то. Когда я с ними служу не долго.
В 24.00 дошли до назначенного места. Это был опять лес. Пока то да сё. Пока выбирали ямки для поддержки штанов и бодрого духа – чтобы окопов нарыть – пролетел час. Не успел я уснуть вместе с Бойко под его плащ-палаткой, как меня вызвали писать донесение. Полусонный, с грехом пополам написал его, отправили, и часа в 3 снова прикорнул…

19 апреля
Но, по-видимому, судьба моя на сегодня была такая – в 4 часа вновь прозвучала команда:
— Тревога!.. В ружье!..
Вскочил, собрался и, накинув на себя плащ-палатку, начал ждать, пока вся капелла соберется и вытянется в колонну. Ждал долго… Опять не было никакого порядка; был бардак, как обычно говорят в таких случаях. Только неясно, почему беспорядок сравнивают с этим учреждением. Знающие люди говорят, что там наоборот, там царит порядок, и было бы хорошо, если б у нас было как там. У нас же творилось невообразимое: крик, шум, гам, треск повозок, команды, пробки, трёхэтажный мат и т.д. Но у всего бывает конец. Наступил конец и нашему беспорядку. Наконец, мы пошли. Плетясь, ругал и войну, и себя, и всех, кто только на ум придет.
Светало. Мы шли на Шпревиц – переправу через реку Шпрее. Гитлер объяснял свое отступление сокращением фронта, так вот он его уже сократил до реки Шпрее, на которой, как известно, стоит Берлин. Всё было как обычно. Кое-где опять всё путалось, но в итоге все обошлось благополучно. К 10-11 часам дня остановились в километре от реки Шпрее для «утреннего планового уничтожения пищи», то есть для завтрака.
Воспользовался обстановкой, немного после завтрака всхрапнул; проснулся от разрывов: фриц лупил по нашему расположению. 4-х человек метрах в пятидесяти здорово покалечило – поотрывало руки-ноги. Со сна не разобравшись, что к чему, я не делал особых попыток влезть в окоп, хотя он был рядом – оставался от наших предшественников — и сидел спокойно. К счастью обстрел вскоре прекратился…
Мы перешли в первый эшелон. Батальоны пошли занимать рубеж на тот берег Шпрее у деревни Траттендорф. Наш НП разместился на этом берегу у каких то бараков. Через часок, после того как наши батальоны «мал-мал» продвинулись вперед, мы вышли, чтобы тоже перейти на западный берег реки. Я выскочил на дорогу прежде всех. Не заметил даже, когда прилетела мина, услышал только, как со стоном рвануло у меня над головой. Меня всего осыпали осколки. Но, по-видимому, я родился под счастливой звездой – ни один из этих осколков меня не задел…
Продвигаясь – сначала на электростанцию, затем куда-то под обрыв – мы вошли в Траттендорф; нашли и заняли себе помещение. Лазили по трофеям, но ничего особенного не нашли. Уже ночью с минуты на минуту ждали команды для перемещения на новое НП, но её всё не было. Фриц то и дело постреливал по Траттендорфу из тяжёлых орудий, но я не вставал, спал спокойно: «а ну, мол, всё это к бесу!» А вообще удивительно – я почти не трушу под обстрелом, не то, что было в январе-феврале; даже под пулями не пригибаюсь. Привык что ли?..
Разрывы снарядов под окнами убаюкивали меня…
20 апреля
Утром перешли на новое НП – домик под обрывом западнее деревни Траттендорф. «Товарищ фриц» вёл себя крайне неспокойно. Снаряды из орудий прямой наводки ложились прямо на НП (обнаружил, что ли?). Один снаряд разорвался прямо над головой командира дивизии, однако, на счастье, его не задел, а убил радиста, стоявшего рядом. Стоны и крики стояли у нас. Тихонько ругаясь, на всякий случай полезли в подвал.
Потери несём огромные. Ранено 54, убито 11 человек, среди них лейтенант Каспаров. Ранены командир полка, подполковник Штыков, начальник штаба, подполковник Коренюгин. Полком командует начальник разведки дивизии капитан Скачко, начальником штаба — капитан Кравцов, наш полковой инженер.
В 14.00 наши пошли на штурм Шпремберга. До штурма по немецким позициям был сделан крепкий артналет, в котором участвовали «Катюши». Нас поддержала штурмовая авиация, которая для устрашения врага сначала отбомбила своих. Наши без особых потерь ворвались в город Шпремберг и заняли его, взяли в плен 57 фрицев. Мы перешли сюда, набрали трофеев…
Городишко, в общем, ничего себе, аккуратненький, как и все немецкие города. Кое-где на улицах тощие деревца. И как везде в Германии не видно ни одного воробья… Часть жителей осталась в городе и никуда не удрала…
Выбрали себе НП и КП на западной окраине города. Ночь прошла тревожно, кругом стреляли; говорят, что батальон правого соседа78 сд пошел по трофеям, и фрицы просочились к нам в тыл. Возможно, что враки это. Но у нас командование 2-го сб всё выведено из строя. Комбатом посылают лейтенанта Шевченко. Всю ночь где-то гудят танки, и всю ночь мы готовимся к самообороне.
21 апреля
Новый день принес новые вести. Противник сопротивляется, но постепенно отходит. Наши подразделения продвигаются вперед. Взяты две деревни. Наша капелла переходит на новое место. В Кохсдорфе выбрали себе хатку, где немного привели себя в порядок, а потом вновь двинулись вперед.
По дорогам тянутся вереницы «цивильных», т.е. гражданских – освобожденных нашими войсками русских, украинцев, поляков. Затем немцы идут – те, которые бежали от нас – с белыми повязками на рукавах, «нах хауз». В только что взятой нами деревне оживление — бегают, собираются домой русские, угнанные в Германию. Громко звучит слово «Здравствуй!». А немцы повывешивали белые флаги: «Сдаемся, — мол, — на милость победителя». По улицам взад и вперед шныряют виллисы и мотоциклы.
Уходим в лес и выбираем себе НП в ямах каких-то; очевидно из них брали глину для различных нужд. Сначала по нам сделали артналёт немцы, а затем свои. Смешно было, наверное, смотреть со стороны на нас, бегающих из ямки в ямку и играющих в прятки со звенящей и летящей смертью. Вскоре перешли в деревню, где услышали невероятную новость: наша 4-я танковая армия вышла на Эльбу. Долго повторяли её в разных местах, и хотелось ей верить…
На улицах моросил дождь и размачивал лежащих перед окнами расстрелянных нашими соседями изменников родины – власовцев. Они здесь были, воевали против нас.
Некоторое время спустя собираемся и вновь уходим в лес. Долго по нему кружим – вправо, влево; будто запутываем следы. Я потерял всякую ориентировку. Кругом идет стрельба, трещат автоматы, пулеметы. Сотрясают воздух взрывы. Это ведут огонь прямой наводкой танки. Оказывается, немцы здесь окружены и мечутся в западне, в «котле». А мы этот «котел» разрезали на котелки. До ночи блуждали по лесу. Пули посвистывали у ушей и стукались в стволы деревьев.
Шел дождь. Мы вымокли как цуцики, замерзли, зуб не попадал на зуб. Остановившись на какой-то опушке, пока светло, развели костер и немного обсушились. Кстати подошло время и для обеда-ужина. Плотно поели. Расстелив плащ-палатки, легли спать. Опять заморосил дождь. Было мокро и холодно, но костры разводить было нельзя – фрицы рядом.
22 апреля
С утра началось уничтожение окруженной группировки. Прижатые к Кауше, фрицы упорно сопротивлялись. Но наша артиллерия сокрушала все. Артналеты на Кауше следовали один за другим. Беспрерывно грохотали разрывы. Над Кауше клубился черный дым, и лучи солнца не могли пробить его.
К 14.00 все было закончено. В том «котелке» нашим полком было захвачено более 100 автомобилей, 1 танк, 3 бронетранспортера. Было убито более 150 немцев. В плен сдались 125 фрицев. Скучно было смотреть на эту компанию – оборванную, грязную, окровавленную, побитую. Шли они, потупя голову, и на лицах была какая-то отрешенность…
Наши солдаты ходили по улицам Кауше, любители – лазали по трофеям. Некоторые искали приключений. Цивильные немцы из Кауше уйти не могли, так как она – деревня эта – была окружена нашими войсками. Поэтому, их – гражданских – было много.
Говорят, что командир корпуса собственноручно расстрелял из пистолета одного такого «искателя», которого он застал за «приключением» — тот насиловал какую-то немку. Может быть, это враки, а, может, и правда.
Генерал Лебединский всегда ходил с суковатой палкой, которой он, как говорят, собственноручно учил уму-разуму своих подчиненных. Лично я не видел этого, только слышал. Ну, а палку? — палку я видел, один раз, когда видел, тоже один раз, самого командира корпуса.
Точно даже не вспомню, где это было. У Буско-Здруй, кажется… Так что, если верны слухи о наставнице-палке, то могут быть верны они и в собственноручном наказании; дисциплину надо поддерживать – не насильники же и не мародеры мы… Не фрицы…
Мы получили новую задачу, и часов в шесть вечера выступили вперед, на запад. Прошли по улицам Кауше. Трудно было идти. Ноги скользили по крови, мы спотыкались о трупы людей, лошадей, коров. Кровавая грязь была перемешана с обломками повозок, машин… Орудия, автомобили, танки, бронетранспортеры громоздились и вдоль, и поперек улицы, образуя своего рода баррикады. К горизонту тянулось шоссе, усеянное целыми и исковерканными пушками, мотоциклами, велосипедами, тягачами, легковыми и грузовыми автомобилями.
Мешал дышать запах разложения, горелых трупов, от этого запаха кружилась голова. Свежий ветерок дохнул при выходе из деревни. Группами толпились «цивильные» немцы, ужас и страх был в их глазах. С сегодняшнего дня у них не будет более прежней жизни, и прошлое будет жить только в их воспоминаниях. Пришел Русский Иван и навел свой порядок. Пришло возмездие. Войны хотели? – получили ее: горят немецкие города и села. Лежат, раскинув руки, уткнувшись носом в землю, фрицы… Вот вам война… Чем вы можете ответить? Белой тряпкой из окна? — «Сдаюсь!» Заискивающей улыбкой?..
Сегодня узнали, что наши войска подошли к Берлину…
Проходили Ной – Вельцов. Чистенькие улицы, целые, не разбитые дома, и даже окна сверкают всеми стеклами. И на каждом доме белый флаг. А кругом – цветут сады… Хорошо!..
Ведут пленных фрицев. Их много. И процессия эта растянулась метров на 300…
Ночь. Мы идем вперед и вперед. На запад. «Сталинцы», грохоча, тянут «плевательницы» — 152мм гаубицы, фырчат… Грязь, дождь… Разъезжающаяся киселем дорога – путь на Берлин…
Ночь застает нас в каком-то городишке. Здесь ужинаем. Вместе с Ершовым засыпаем на полчасика. Из-под намокшей плащ-палатки за шиворот стекают капли воды. Но я, заморившийся и уставший, сплю как убитый, не замечая даже, что давно лежу в луже, и на мне все промокло…
23 апреля
Разбудил крик:
— Солдат, пошли! – и бесцеремонный толчок носком сапога в бок. Толчок средней силы. Спали мы в лесу, на обочине дороги. Из городка, в котором мы ужинали, сразу же ушли и продолжали путь на запад…
Уже полтретьего. Не обращая внимания на слякоть, дождь и ветер, пошли дальше, вперед…
Я вспомнил, что сегодня у меня день рождения. Сегодня мне исполнилось 20 лет. Итак, позади двадцать лет жизни. А сколько осталось еще впереди?..
В 6.00 прибыли в пункт сосредоточения. Остановились у одного немца. Слепит глаза электричество. По телу разливается теплота. Хочется спать. Комфорт. Уют… Написав утреннее донесение в дивизию и отправив его, разуваюсь и ложусь спать. На два часа.
Разбудил Ершов. Ему не терпится поделиться новостью, что войска нашей армии соединились с войсками союзников и что наши ведут бои с фашистами в центре Берлина. Все это, конечно, вести радостные… Но война еще идет, борьба еще не окончена…
День прошел без особых событий. Лишь уехал со стажировки ПНШ-1 гв. лейтенант Шевченко Евгений Кузьмич. Уехал, ругаясь на теорию:
— Вот она, война! Если б вчера я действовал по теории — от батальона не осталось бы ни рожек ни ножек!..
Тепло простились с ним. Это самый лучший ПНШ-1, с которым я работал. И таких, пожалуй, я больше не встречу. На замену Шевченко прибыл и принял дела новый помощник — гв. лейтенант Смоляков. Что это за человек – посмотрим…
Получил письмо от Тамары (подруга детства – прим.). С горечью и печалью сообщает о смерти Аркадия Никонова. Не хочется верить этой вести… Аркаша всегда был симпатичен мне. Многое вспомнилось о нем. Был очень талантливый парень, писал стихи. И характер у него был хороший… Тамара пишет: «Ты не представляешь, как дорога твоя жизнь для меня!»… Вот как!..
… До ночи работал, работал, работал. Спать лег поздно, а в два часа пришлось вставать и писать донесение. Не успел снова заснуть, как раздалась команда: «Тревога, в ружье!..»
Быстро собрались, и в 4 часа выстроились на шоссе…
24 апреля
Выступили, и началось блуждание: вместо того, чтобы идти на север, пошли на юг, вместо того, чтобы свернуть вправо, повернули влево. Из села выбрались только на рассвете. Шел и спал на ходу. Натыкался на всё, что попадалось на пути, и качался как пьяный…
Выпросил у Ваньки Тарасова велосипед и поехал вперед. Сон сняло как рукой. Самокатом летел под гору и пыхтел как паровоз, въезжая в гору. До нового места сосредоточения доехал быстро. Написал боевое донесение, составил схему. Немного соснул, составив два стула. Нашел себе велосипед и хорошо его направил. Побрился и умылся – привел себя в божеский вид. А вечером – снова в поход, но почему-то назад, в Шпремберг. Долго думали и гадали: «Зачем?» Ни к какому выводу не пришли. Командованию виднее, поживем – увидим, зачем…
Было уже темно, когда взвод автоматчиков на велосипедах и я – в их составе – выехали с исходного пункта. Прикатили в Гросс-Кошен. Долго ждали своих, лежа в лесочке. Химики наши во главе с гв. лейтенантом Тахтахуновым вывели из дома напротив 80 пленных и повели их в тыл. Немного времени спустя послышался подозрительный шум во дворе, мы вошли туда. Оказывается, один немец остался, спрятавшись где-то, намеревался удрать. Автоматчики тут же «отвели» его в штаб…
Вскоре наша вело-мото-мех-пех-«бригада» вновь понеслась вперед. Многие энергично жали на педали, весело журчала передаточная цепь велосипеда. Встречный ветер играл волосами, пытаясь сбить пилотку. Деревня за деревней оставались позади, мы мчались к Шпрембергу. Делали короткие остановки у регулировочных пунктов. Тяжело дышащие, обтирая рукой пот со лба, мы представали точно приведения перед светом фонаря регулировщицы. Начинались смех, шутки. Весело болтала повеселевшая регулировщица – длинна и тревожна ночь на чужой земле, в чужом городе. Скучно стоять одной и страшно… 18-19 лет – а напротив во дворе орет раненый, недобитый фриц, прострочит очередь на свет автомашины «мессер», ухнет пару бомб… А ночь длинная – длинная, тревожная, страшная — тянется без конца… И хотя храбрится сестренка, говорит:
— На что ж карабин мне дан? Стрелять буду, если нападут! — однако голос дрожит…
Кто-то из ребят-автоматчиков сочувственно предлагает:
— Слуш, сестренка! Может, махнем карабин твой на автомат. Автомат — дело верное!..
Однако, нет… «Карабин записан!»… Смеемся: «Дисциплинированный солдат!»…
Поболтав, отдохнув немного, несемся дальше. Делаем остановку в Зедлице. Все проголодались, хотят жрать. Разбрелись по домам. Я тоже пошел искать варенье и консервы, нашел их в каком-то безхозном подвале. Через полчасика, удовлетворив свои потребности — пожрав и пос…. мотрев на луну, поехали дальше. Время уже 24.00.
25 апреля
В 4.00 остановились в деревне Госда, и часа полтора поспали, а затем вновь поехали дальше. Часов в семь въехали в Шпремберг. Начались поиски полка, который по нашим расчетам уже должен был быть здесь. Поисками были заняты часов до одиннадцати. Проголодались как черти. Проявив смекалку и находчивость, достали четыре или пять буханок хлеба, нажрались. Затем с капитаном из политотдела приехали в Сламнер-Циглей, где и нашли свой полк. Прибыл я весьма своевременно – было время писать донесение. Отправив донесение, всхрапнул. Спал до обеда, а после обеда ничего не делал – дурака валял.
По улицам бесконечно толпой идут на восток тысячи «цивильных» поляков, везя с собой в тачках, тележках, а то и просто неся за спиной барахло…
… Уже вечер. Очень хочется переспать хотя бы одну ночь без тревоги, но не знаю, придется ли?..
26 апреля
Ночь прошла спокойно, без тревог.
День начался как обычно – проснулся. Но затем пошло уже не по писанному. Поднялся, отлично отдохнувший, умылся, как подобает. Все было спокойно – обычный день в обороне. Чертил схемы различные и делал прочую нужную ерунду. И бездельничал. С утра на восток продолжает тянуться поток людей, освобожденных от немецкого плена. Это русские, украинцы, поляки. Они идут домой.
Часов около восемнадцати получили приказ складываться и сосредоточиться в районе Грюневальд, в 46 километрах отсюда. Спешно собираюсь, увязываю немудрёное барахлишко своё – плащ-палатку, плащ, телогрейку и мешочек сахару; всё это на багажник велосипеда – и пошел! В марш-поход, вперед, на запад!.. В начале собралась компания велосипедистов довольно-таки теплая, но… все мои попутчики оказались или слишком осторожными, или слишком трусливыми – из города Гойерсверда я выезжал уже один. Передо мной был лес – 14 километров предстояло проехать по нему, и на пути не было ни одной деревни. Я видел это по своей карте. Ехать через этот лес одному было слишком рискованно: в лесу скрывались фрицы и, кроме того, где-то в этом районе была окружена небольшая группировка немцев. А у меня уже был один печальный опыт, связанный с выходом из окружения немцев…
Но тут, кстати весьма, подскочили тоже на велосипедах два дивизионных разведчика, которых я уговорил поехать. И мы рванули… Точно стрелы пролетели мы эти 14 километров по асфальтированной дороге. Даже сами не заметили, как проскочили. Горка менялась горкой, поворот – поворотом. Очень устали. Хорошо бы, конечно, прицепиться к пушке и ехать, не работая ногами, – так я ехал до Гойерсверда – но пушек, к сожалению не было…
В Бернсдорфе мои попутчики отстали, и я дальше ехал один, но уже было не страшно: до Грюневальда оставалось всего 7 километров.
В деревню заскочил первый – до меня тут еще не было советских солдат. Луна освещала пустые улицы. Все кругом зловеще молчало. Мне стало жутко-жутко. Где-то поблизости замяукала кошка, и мои волосы полезли дыбом. Но я тут опомнился и одернул себя:
— Вояка, славянин, разтак тебя разэтак!.. Вперед!.. – и пошел искать себе ночлег. В это время издалека послышался шум машин, и вскоре в деревню въехали наши…
Дом выбрал крайний. На мой стук вышел старый немец. Я вошел в дом со своим «машиненпистоле» за плечом и с двумя лимонками на ремне. Сказал ему: «Их воллен шляфен!» — он меня понял и повел в какую-то комнату, показал на диван, на котором уже была постель. Я стукнул кулаком по столу и сказал: «Давай фрау!..» Мой старик повалился на колени, но потом повел меня на второй этаж, где в постели дрожащие от страха лежали под периной его старуха и две дочери.
Мне стал омерзительным мой поступок, я стал противен сам себе. Махнув рукой, я вышел от них, спустился к себе, заперся в комнате, которую мне отвели, и лег спать. Перед сном лежал и думал о тех, кому я решил подражать; столько я наслушался рассказов от своих о подобных «героических» поступках. Неужели они говорили правду, а не хвастались? А если не хвастались, то как они могли?..
Но раздумывал я об этом недолго. Позади был путь в 50 почти километров, и время – час ночи… Я быстро уснул…
27 апреля
Проснулся рано и, не показываясь немцу, – стыдно было за вчерашнее – ушел из этого дома. Решил искать своих. Первой мыслью было, что не миновать мне взбучки лейтенанта Смолякова за то, что уехал вперед и улегся где-то спать. Завернул наугад в какую-то первую попавшуюся улицу, вошел в первый попавшийся дом и оказался в своей оперативной части. Моего отсутствия и не заметили. Сразу же включился в работу, написал донесение, отправил его в штадив, и только было настроился на второй заход сна, как раздалась команда: «Приготовиться к маршу!» Было 10.00, а готовились до 18.00. Спокойно можно было выспаться.
Пошли по направлению на Швепниц, Кенигсбрюк. В 20.00 были в Шморкау, откуда в 22.00 нас отправили назад — полк находится во втором эшелоне дивизии. Дивизия ведет упорные бои за Кёнигсбрюк. Фрицы несколько раз переходили в контратаки. Наши тоже атакуют город, но пока безрезультатно…
Разместились опять в Грюнвальде.
Ночь прошла спокойно.
Сегодня в 13.30 в районе Торгау наша армия соединилась с союзниками.
28 апреля
Ничего особенного за день не произошло; делал свои обычные дела. А кроме этого написал письма маме, Ваньке Казакову, Тане Чапышевой и какой-то Зое Андреевой, которая живет вместе с мамой в Хормалах. Она учится в школе, а живет у нас на квартире. Получил на днях от нее письмо…
29 апреля
День прошел без толку. Весь день слонялся из угла в угол. Заходил к ребятам в комендантский взвод, потом в роту связи. Хлопцы достали где-то вина, пьют. Семенов-телефонный толкает речи. Налили и мне; выпил. В голове крепко зашумело, и я поскорее смотался к себе. Хотел немного соснуть, но пришел Колька Багаев, требует донесения – ему идти в штаб дивизии. Я упирался, мне хотелось спать, а он, подлец, не давал. Я уж ругался-ругался, но пришлось вставать…
Нет охоты ничем заниматься… И эти строки писать неохота… Пойду, посплю…
Читайте также:
- Победный дневник: как мой дед на передовой оказался (Начало)
- Победный дневник: Как мой дед немцев догонял