«Чтобы сдать ЕГЭ, нужно быть у меня на уроке в понедельник и в четверг». Учитель литературы Анастасия Ципенко

Анастасия Ципенко — учитель русского языка и литературы в московской школе № 1564.
Служба понимания
— Многие родители сейчас бегают по потолку, боясь, что единая программа не заложит знаний для хороших баллов ЕГЭ и сильных школ.
— Программа — это ориентир, и такие ориентиры были всегда. Во-первых, она задает базовый минимум, но не отнимает возможности делать свои рабочие программы на ее основе. Во-вторых, у нас остается достаточно свободы в календарно-тематическом планировании.
Учителям никто не запрещает дополнительно брать «сильные» учебники. Я всегда смотрю на детей: что они могут, чего не могут. Если надо, возьму материал из другого учебника или сама придумаю.
Все дети разные, не получится их стричь под одну гребенку. Честно скажу, по какому бы учебнику я ни занималась, у меня все равно будет много моих распечаток. А по литературе — вообще чем дальше мы продвигаемся, тем меньше пользуемся учебником. Особенно в старших классах, где написаны готовые анализы всего-всего.
— Один стобалльник-технарь жаловался мне, что был вынужден сдавать тот же экзамен по русскому, что и люди, которые поступают на филфак. Может, пора и русский поделить на профильный и базовый?
— Как сказал мой друг инженер-энергетик: «Какой ты инженер, если ты не умеешь писать?» Потому что инженер должен уметь написать четкий, связный текст, как и любой человек. Это в любой профессии нужно. Может быть, если ты только не переворачиватель пингвинов — с ними не особо пообщаешься. Но тебе же потом все равно писать отчет.

У меня полно анекдотических историй, когда в 8–9-х классах приходит моя коллега, учитель математики, и говорит: «Слушай, у тебя в классе геометрию лучше понимают гуманитарии. Потому что они читать умеют».
— Но не всем же на уроках надо глубоко копаться, скажем, в сложной транскрипции.
— Не всем (загадочно)… Хотя я ее даю с 5-го класса. Если ты хочешь, чтобы дети правильно понимали, как работает язык, приходится начинать с того, как устроены звуки, как они связаны с человеческой физиологией, с акустической физикой. На мой взгляд, неправильно использовать в фонетической транскрипции букву «а».
— Потому что без ударения звука «а» быть не может, он ослабляется.
— Дело даже не только в этом. Представьте себе ребенка, который несколько лет подряд видит «корову» через «а». У него не фиксируется в голове, что это фонетическая транскрипция, у него фиксируется визуальный образ слова. Особенно в «началке» бывают учебники, где крупным шрифтом написано: [АГУР’Э́Ц]. Всё, на этом месте мы забываем про правописание.
Поэтому я предпочитаю знаки более сложные. Если мы хотим, чтобы дети читали книжки для подготовки к олимпиадам или, когда откроют учебник 7-го класса, просто уже были в курсе, нужно копать глубоко. А суперсложности остаются на любителя.
Мы хотим от всех людей, чтобы они умели связно и грамотно изложить свои мысли. Аверинцев говорил, что филология — это служба понимания.
И русский язык в целом — очень прикладной предмет, где мы отрабатываем навык. Мне кажется, тот экзамен, который у нас есть сейчас, абсолютно базовый. Другое дело, что местами тоже очень странный.
— В чем именно?
— Очень нехорошие чувства просыпаются, например, когда в инструкции к экзамену слышишь 17 раз сказанное диктором слово «обеспечЕние». 17 раз! И если тебе это слово попадется на экзамене, ты должен поставить «обеспЕчение». Мне не нравится, когда с людьми недостаточно честны. Если ты берешь на себя труд проверять знание орфоэпии, убедись, что ты сам говоришь правильно.
Вообще сама природа тестовой части демонстрирует, насколько хорошо ты научился решать конкретный тест. И те же олимпиадники в тесте допустят совершенно дурацкие ошибки просто по невнимательности. Или перемудрят, увидев какое-то более сложное правило, а в итоге победит тот, кто делал максимально просто. Хотя все, что касается орфографии-пунктуации в ЕГЭ, очень простое. Даешь алгоритм — и вперед. «Дружище, выучиваешь правило. Без дураков, наизусть. Выучиваешь список исключений. Без дураков, наизусть. Все, ты больше не делаешь ошибок». Это работает.

— А ларчик просто открывался.
— У меня был ученик, который не сдал русский на 100 баллов только из-за невнимательности. Ему нужно было выписать слово либо в начальной форме, либо в той форме, в которой оно стоит в тексте. А он придумал какую-то третью, совершенно случайно. У него 98 баллов. Это мальчик, который может написать любую букву в любом месте, если он себя не контролирует. Но мы выработали у него кнопку «вкл», которая запускает режим «я проверяю то, что я пишу».
«Мне слишком лень обманывать государство»
— Какие у вас в классах средние баллы по ЕГЭ?
— Обычно хорошо сдают, последний год был 85+. Это и технари, и гуманитарии. Бывают стобалльники. Но все, что выше 90 баллов, — это удача. Если ты весь год «ботал» по ночам, у тебя хорошая заявка на 90+. Тот же мальчик весь год пахал, но на ЕГЭ ему не повезло. Некоторые задания мы с коллегами так и называем — угадайка.
— Школьных знаний хватает для таких баллов?
— Все мои стобалльники не занимались с репетиторами. По русскому мы точно проходим все темы. Другое дело, что дети разные. Кому-то нужно больше посидеть, кому-то — меньше. Но у нас для этого есть вторая половина дня. Ребенок, который хочет, всегда придет и возьмет.
Как-то на родительском собрании в начале 11-го класса папа ученика спросил: «Анастасия Антоновна, что нужно, чтобы Гриня сдал экзамен на 85?» — «Нужно, чтобы Гриня был у меня на уроке в понедельник в 12:30 и в четверг в 16:30». Гриня был — Гриня сдал. Идеально. Но для этого пришлось предыдущие четыре года работать на такое доверие.
С репетиторами бывает одна неприятная история. Когда много требуют в школе, а еще и репетитор нагружает, ребенок оказывается задавленным, ему спать некогда.
С одним ребенком на репетиторстве я докопалась до удивительной вещи. Родители мне об этом не сказали, но там было два репетитора!
— Чтобы наверняка?
— Да, причем ребенок собирался в химический вуз. Место действия не Москва, со мной занятия были дистанционно, а другой репетитор мог прийти и сесть рядом. Девочка несколько раз подряд не делала домашние задания, не учила теорию, и я стала выяснять причины.
Я могу придумать десятки мнемонических техник, но в конечном счете это ее голова и она сама должна думать. Сказала родителям, что мое присутствие нецелесообразно. «Но подождите, только вы говорите с ней про общую грамотность, только вы учите ее писать. Другой репетитор только натаскивает на ЕГЭ!» Извините, но у ребенка мозг взорвется. Потому что ей просто плохо, она мучается сама из-за того, что не успевает.
— Кто отвечает за результат?
— Оба. Я точно знаю, какие темы объяснила и проконтролировала, что ребенок их понял. А если он не понимает, я начинаю думать, что в моем объяснении не так. Каждый раз это творческая задачка.

Но ответственность школьная и репетиторская одинаково высока. Ты получаешь за свою работу деньги, изволь делать ее хорошо. Просто репетитор — частное лицо, здесь твоя личная репутация. А когда ты в школе, ты еще часть организации. Но и там и тут я отвечаю за то, что рассказываю и показываю на уроке.
— Как вы пришли в репетиторство? Да еще и самозанятость оформили.
— Мне слишком лень обманывать государство. Лучше я просто оплачу свое спокойствие этим несчастным налогом в сколько-то тысяч и не буду думать, что мне надо что-то от кого-то скрывать. Но это одна причина. Вторая была связана с тем, что однажды у меня случилось профессиональное выгорание, на эту тему я даже работала с психотерапевтом.
— Давно это было?
— Лет через 7–8 после того, как пришла в школу. Почему еще так долго держалась — были прекрасные родители, которые умеют разговаривать и слышать, а не начинают кричать и жаловаться в департамент, что мы «Белоснежку» читаем на уроках. Это была реальная история. В сказке такая жестокость, что, оказывается, пятиклассникам про нее знать не надо. И в целом подобные истории были одной из причин моего выгорания.
Ну и ковид с изоляцией меня подкосили.
Я стала много думать о том, значу ли я что-нибудь без школы, и просто взяла побольше учеников, нашла еще разные активности.
Выяснилось, что я и без школы справлюсь. И это дало мне больший стимул остаться. Когда у тебя нет ощущения, что «отступать некуда — позади Москва», тебе спокойней работать.
«А мне не надо!»
— Многие считают, что литература тоже нужна не всем. А правда, зачем она?
— С 5-го по 7-й класс мы вообще учимся анализировать текст: знакомимся с основными художественными приемами, литературными родами, жанрами. И я очень надеюсь, что потом у большинства детей в голове есть понимание: даже если они потом увидят какой-то странный текст, они смогут над ним подумать. Все знания передаются на языке, и понимать текст — это базовый навык.
Мне совсем не нравится деление на гуманитариев и технарей. На мой взгляд, это абсолютно ложное представление. Кому-то больше интересна математика, кому-то — литература, у кого-то больше склонности к физике, но глобально мы все в школе занимаемся либо науками, либо искусством. И на литературе мы занимаемся наукой, изучающей искусство. Мы не просто книжки читаем, у нас не чтение.
— Лев Соболев говорил, что учить историю литературы каждому школьнику — все равно что учить историю балета.
— «История» — хорошее, конечно, изменение формулировки. Школьная литература — это литературоведение, тексты, которые считаются классическими, плюс немного истории. Она сюда вписывается постольку, поскольку в понимание текста при необходимости включается знание культурного контекста. И в принципе без знания культуры какой у нас получится выпускник?
— Окей, нужно ли всем уметь анализировать балет?
— Честно, я бы рассказывала. В курсе музыки дети и так с ним знакомятся. Но глобально все это проистекает из назначения школы. Школа должна дать базовые знания и кругозор. Поэтому ранняя специализация вредна. Я очень не люблю все эти суперпрофили, когда у гуманитариев или в IT-классе убирают химию и так далее…
Как-то в таком классе я вела маленький спецкурс «Прикладная лингвистика». Пытаешься им рассказывать про автоматическую обработку текста, доходишь до уровня анализа синтаксиса и говоришь: «Смотрите, у нас слова могут друг с другом сочетаться не очень свободным образом. Эти ограничения мы можем рассмотреть по аналогии с валентностью в химии». Они на меня смотрят от-такими глазами. «Ребят, а у вас химия есть?» — «Ну что-то такое было».
— Но вот приходит к вам десятиклассник и говорит: «А мне не надо, я в Физтех поступаю».
— Приходили! А потом после первых дней в университете сокрушались: «Как можно с человеком разговаривать, если он “Капитанскую дочку” не читал?»

С 10-го класса у них профили, на мой взгляд, слишком узкоспециализированные. Но вот, допустим, наш последний профильный выпуск. У нас были свои программы, где у технарей по три часа литературы, как положено. Через день мы с ними что-то читали и обсуждали. У меня физмат объяснял систему образов той же «Капитанской дочки» буквально под аплодисменты.
Какие физики и лирики? Есть дети, которым интересно, а есть те, которым ничего не хочется, но их тоже можно раскачать. Это всегда вопрос доверия. Если доверия нет, подросток словами «а мне не надо» заранее закрывает для себя часть дверей в жизни.
Айсберг и «Слово о полку Игореве» на мотив «Катюши»
— Какие у вас есть приемчики для уроков?
— Очень часто они привязаны к конкретной теме, как с тем же «Словом о полку Игореве» в переводе Заболоцкого. Прекрасно ложится на мотив Катюши:
— Обернусь я, бедная, кукушкой,
По Дунаю-речке полечу
И рукав с бобровою опушкой,
Наклонясь, в Каяле омочу.
Этот мем мне прислала подруга, и его невозможно забыть. Здесь и «Слово…», и литература XX века. И к каждой теме есть набор интересных штук, которые могут зацепить. Очень часто это какой-то каверзный вопрос.
— Например?
— А на какую рифму появляется Чацкий в «Горе от ума»?
— Не помню.
— Чацкий-дурацкий, Чацкий-дурацкий. Это я вычитала у Евгения Ильина, он показывает, что хорошо начинать урок с какой-то мелочи и потом потихонечку ее раскручивать.
У нас есть многоуровневая громада текста, есть набор инструментов, как его анализировать.
Причем в лучших текстах все настолько гармонично, что ты можешь потянуть за любую ниточку и выйти, куда тебе надо.
Художественное произведение — это айсберг. Есть вещи, которые лежат на поверхности. Что ты обычно запоминаешь, когда прочел книжку? Какие там персонажи и что с ними происходило. Но мы знаем, что подводная часть айсберга больше надводной. Если дети хотят посмотреть, что мы будем изучать семь лет, я показываю им картинку с таким айсбергом и темами. Я структурный лингвист, мне важна структура.
— Почему тогда не возражаете против «наивного» анализа в духе «Наташа Ростова упала в моих глазах, ну почему она пыталась сбежать с Анатолем»?
— Мне в принципе претит любое образование, где ребенок боится задать вопрос. Откуда у нас тогда появится свобода мысли? И откуда взяться людям, которые все знают, понимают и не задают дурацких вопросов? Дети все равно будут обсуждать и Наташу, и Татьяну, и всех остальных, просто исключат тебя. Не можешь победить — возглавь.
Ребенок не обязан все знать, он ко мне на урок пришел, и моя задача — ему объяснить, почему какое-то толкование кажется более правильным, какое-то менее. Но не бывает неправильного понимания. Бывает понимание на разных уровнях. Вот ему его жизненный опыт пока не дает другого.
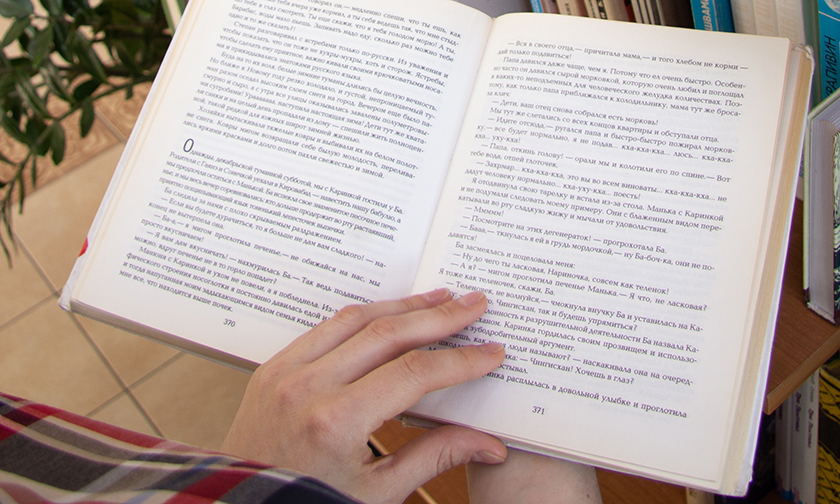
Допустим, ребенок оценивает, почему Татьяна отказала Онегину, не понимая реалий семьи и брака начала XIX века. Он же будет по-другому роман воспринимать, и это не проблема ребенка, что он чего-то не знает. Проблема, когда он вышел из школы и не понимает, что художественный текст надо читать с учетом контекста. А в школу он пришел, чтобы научиться.
«Не можешь остановить — возглавь»
— Почему вы пошли в школу, если собирались стать структурным лингвистом?
— Мама очень старалась, чтобы я не стала учителем. Потому что работа тяжелая. Просто тяжелая. И мне правда очень нравилось все, что связано с лингвистикой и психолингвистикой, я чудесно отучилась в МГУ. А потом, когда уже была в аспирантуре и работала на кафедре, надо было подменить маму в школе.
Я пришла вместо нее на несколько месяцев. Два дня на кафедре, три дня в школе с 8:30, а вечерами — репетиции и выпуск танцевального спектакля. У меня с этих времен воспоминаний практически нет, память сделала монтаж. Я так мало спала, что помню только один-единственный урок в одном-единственном классе — зато по «Фаусту» Гете.
Как мама потом рассказывала, коллеги приходили слушать под дверью на всякий случай, потому что мне достался 8-й класс, а это самое ужасное время — у детей начинается пубертат и они постоянно тебя тестируют «на вшивость».
Нужно войти в клетку с тигром и не показать, что ты боишься.
И коллеги сигналили маме: «Все нормально, там тихо».
Оказалось, я могу держать дисциплину. И после этого мне предложили прийти на постоянную работу в школу. Я поняла, что вот здесь мне ужасно интересно и я чувствую себя на своем месте. Короче, мама старалась, но против призвания не попрешь.
— Каково это — быть учительским ребенком?
— У меня просто уникальная мама, и с возрастом я понимаю это все больше. Для меня очень многие вещи само собой разумеющиеся. Например, я училась в классе своей мамы три года, с 5-го по 7-й класс, и это было совершенно нормально.
— Обычно родители и дети стараются не пересекаться ни в школе, ни в вузе.
— Вот для меня было естественно, что она учитель и я на равных правах со всеми. То есть у меня вообще не было ощущения, что это что-то необычное, неправильное. Теперь я знаю, что так делают не все, но для меня до сих пор шок, если делают не так.
Потом я ушла в другую школу, где мама показалась два раза — на знакомстве и в 11-м классе, когда я сказала: «Мама, сходи, пожалуйста, вместо папы на родительское собрание, потому что папа предложил на выпускном прыгать с парашютом. Мама, я хочу, чтобы на выпускном у меня было платье и мы танцевали».

Мама дала мне много свободы, и для меня был нонсенс, почему люди не хотят делать что-то со своими родителями. Мы с подружкой любили рок, слушали «Наше радио» и после 9-го, кажется, класса захотели поехать на фестиваль «Нашествие». Вспоминая это сейчас, думаю, что я бы в жизни не отпустила своего 14-летнего ребенка туда, где толпа пьяных людей будет орать песни.
— Что сделала мама?
— Спросила, не поехать ли нам вместе. Родители арендовали нам номер на турбазе, чтобы мы не ночевали в палатках, в грязище. И на сам фестиваль они не ходили, доводили нас только до входа. Первый день нам самим не понравилось, там действительно были эти странные люди. На второй решили идти только к «Наутилусу Помпилиусу».
Не каждый родитель смог бы сделать вот так. Но это та же самая позиция: не можешь остановить — возглавь. А потом — одними запретами не добьешься многого. Нужно постоянно объяснять, почему ты действуешь так. Может быть, ребенок не согласится, но он не будет хотя бы зла на тебя держать. В школе все то же самое.
— Как в вашу жизнь пришли танцы?
— Я танцую лет с пяти. Когда наступил 11-й класс и мы составляли расписание по подготовке к экзаменам, стало ясно, что танцы не влезают. После чего летом, в июне, на экзаменах про себя решила: «Сдам или нет, пусть хоть в фаст-фуд пойду работать официантом, но я буду танцевать». Без танцев было ужасно.
И дальше на филфаке я увидела афишу театра-студии Lege artis. Это было здание ДК «Серп и молот» — разрушенное, местами без крыши. Когда мы через несколько лет с подругой смотрели фотки оттуда, мы поняли, что очень хотели танцевать…
А потом моя мама, когда я училась в аспирантуре, сказала: «Слушай, ты можешь нам бал провести?» Я проводила балы в ролевых кругах и решила, что попробую. А когда пришла сюда работать, балы стали частью большого проекта. Теперь я даю четыре бала ежегодно (смех).
«Что нового покажет мне Москва?»
— Чему бы вы хотели научить детей в человеческом плане? Или вы только русский и литературу ведете, а воспитание — родителям?
— Не получится учителю уйти от воспитания. Дети же приходят в школу маленькими, учитель для них — авторитетный взрослый. В 5-м классе они еще реагируют на личность, а дальше начинают тебя тестировать, и чем старше, тем больше. Каждый раз ты заходишь в класс, думая, «что нового покажет мне Москва».
Да и почему они по умолчанию должны меня слушать? В силу служебного положения и что я старше, некоторый аванс есть. Но аванс рано или поздно кончается. Дальше ты должен заработать авторитет.
Мама вообще говорит, что педагогика, преподавание — не наука, а искусство и талант. И в первые годы, пока у меня не было педагогического образования, я решила так: я не знаю подводных камней и плохо разбираюсь, что с этими детьми делать, но могу быть искренней. И это сработало. Теперь у меня есть опыт, но по-прежнему каждый август мне снятся кошмары про новый учебный год.
— Какие?
— Что я захожу в кабинет на урок, но все время что-то идет не так: не готовы материалы, нужны распечатки, чтобы дети работали с текстом, а принтер не печатает, не включается доска. Но это все можно пережить. Хуже всего — когда из головы вылетело, что ты хотел сказать.

— Такое снится перфекционистам.
— Думаю, все учителя немножко перфекционисты. Тем более дети — они же как обезьянки. Вот я делаю что-то не то, а они берут с меня пример, хочу я этого или нет. Или идут от обратного: «Нет, только не как она!» Поэтому приходится быть перфекционистом.
Фото: Евгения Дуюнова



