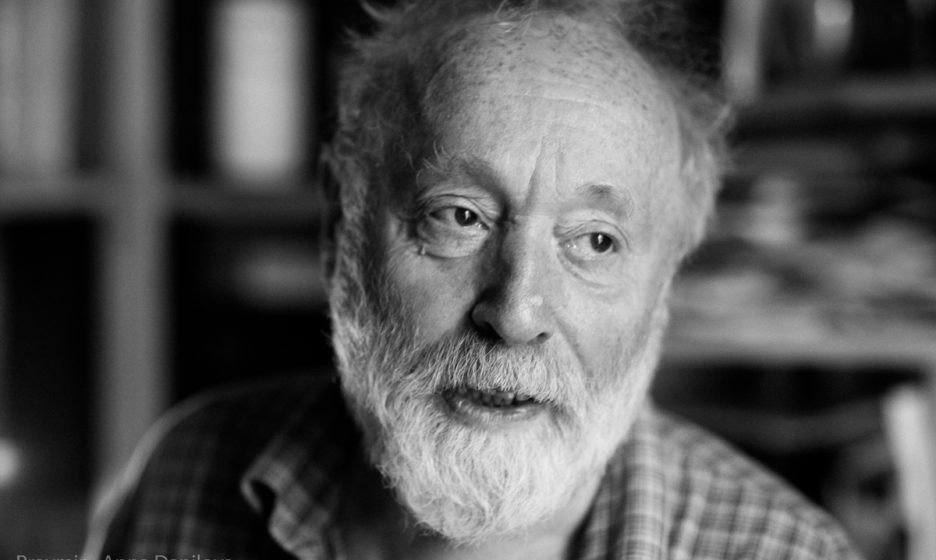
Когда я слушаю все эти политические дебаты, пытаюсь поставить себя на место представителей нашей политической или теоретической элиты, то сам я никак не могу отождествить себя с ними. Это настолько трудные и тяжелые темы, что для них требуется предварительное уединение, чтобы самому, по крайней мере, войти в это.Сегодня нет одиночества мысли. Обратите внимание, что сегодня нет философии, она практически ушла из понимания, или ее начинают заменять идеологией. Мы опять попали в ситуацию, когда мы смотрим на начальство, думая, что оно-то, конечно, разберется, оно-то знает. А беда в том, что оно ничего не знает и ни в чем не разбираться не станет.
Простые земные, человеческие истины, без которых немыслима сама жизнь, у нас пытаются заменить сложными построениями, куда входит все – и разговоры о православии и вообще о религии, и разговоры о политике – все смешивается в одну кучу. Для меня это абсолютно неприемлемо, я в стороне от этих потуг.

— К Православию мы еще вернемся. А как вы относитесь к такому явлению, как патриотизм? Мы же помним эту старинную английскую фразу «патриотизм – последнее прибежище негодяя». К сожалению, жизнь показывает ее мудрость. Под маской патриота часто скрывается большое зло. Да и вообще, сейчас так сильно стерлись границы государств и это особенно видно в сфере культуры, что трудно оставаться человеком одной страны, живущим в одной культурной, изолированной от остального мира среде. Как вы считаете, должен быть человек патриотом и что для вас настоящий патриотизм?
— Должен, только тогда он должен за это отвечать и тяжело над собой работать. А у нас за это не отвечают, считая, что делать ничего не нужно и природа уже все дала. Но ведь в таком смысле патриотами могут быть даже мухи, поскольку они тоже заботятся о том, чтобы у них была своя сахарница, корм и все прочее.
Нужна подлинная тяжелая работа. Я считаю, что настоящий патриотизм – это когда человек идет на смерть, прекрасно зная, что идет на смерть, и при этом сознавая, что у него остался дом, его близкие. Но он знает, за что он идет. У нас же, когда начинают говорить о патриотизме, не вкладывают в это понятие ровным счетом ничего – нет необходимой внутренней работы. Получается, что человек только кричит о патриотизме, но не отвечает за свои слова. Такое вот «крикливое» явление, не переходящее в каждодневную тяжелую работу.
Есть и еще один момент. Страна разделена по экономическому принципу – причем разделена таким ужасным образом, что представить себе это лет тридцать назад было бы невозможно. 90% страны принадлежит буквально 500 семьям, оставшуюся часть кинули остальной части общества. Интересно, за кого я должен пойти воевать, если мне придется? За тех, у кого вместо глаз амбразуры? Они ненавидят людей, они ненавидят жизнь – более того, они ее не просто ненавидят, они ее боятся, поэтому так заботятся о своем здоровье. Поэтому я не удивлюсь, если завтра из детских домов, где ребенок не защищен абсолютно, детей будут разбирать на органы – на «запчасти» для этих самых…

— Да, и говорить об этом приходится с ужасом, но это становится нашими реалиями. У нас уже есть примеры такого «патриотизма». Все кричали о Москве лужковской – какая она стала праздничная, нарядная, подсвеченная снизу и сверху – просто благодать! Но ни Лужков, ни его жена, ни его подчиненные не думали о том, во что превратится Москва, если они будут ее так набивать. И вбивать дома, как гвозди, и набивать ее людьми – в буквальном смысле набивать. Что ж, итог мы имеем, и никто за это не отвечает.
То же самое и сейчас. Подмосковье будут делать частью Москвы – я считаю, что это преступление. При этом молчат архитекторы, молчат природоохранные институты, молчат геологи, молчат лесники – все молчат. И все это превращается исключительно в средство для личного обогащения. Все разговоры о том, что будут возникать некие благородные анклавы, куда будут переселять людей, и что прямо сейчас все кинутся переезжать из Москвы в Подмосковье – это только разговоры. Мне кажется, идея состоит в том, чтобы населить здесь, в Москве, 20 миллионов человек. И что это будет? Седьмая часть населения страны разместится в этом относительно небольшом по размерам пространстве, а все остальные будут эту часть обслуживать?

Потому что для другого они должны, читая книги, понять, какой катастрофической жизнью живут они сами и их семьи, задаться вопросом, кем будут их дети, когда они выйдут в жизнь? Они должны изучать Декарта, хотя есть вещи гораздо важнее картезианской философии, Декарт только суммировал. Кстати говоря, и Маркса им тоже не мешало бы почитать, потому что он как раз писал о психологической зависимости человека от денег, о том, в кого превращается человек, который обладает непомерным частным капиталом.
Это очень важный момент, но об этом у нас не говорят ни психологи, ни психиатры. У меня есть знакомая – замечательная женщина, психолог, которая как раз занимается этой проблемой. Она говорит: «Юрий Борисович, ко мне приходят вот такие богатые люди, которые абсолютно потеряли смысл жизни. Но когда я им начинаю что-то объяснять, они набрасываются на меня с такой яростью!» Она говорит: «Я им ничего не могу внушить. Они думают, что я либо высказываю какие-то фальшивые мысли, либо завидую их бытию – что у них есть деньги, а у меня их нет».
Но нужно как-то попытаться внушить им, что если их жизненный путь не изменится, они окажутся в тупике, и в конце концов у них начнутся болезни, и они сами не заметят, как погрузятся в такую трясину, из которой выхода уже не будет. И религия не спасет, потому что в этом случае религия не является стержневой – она превращается в декоративный элемент, в такое, знаете ли, придаточное предложение.

А если говорить о религии, то еще в «перестроечные» годы мне казалось, что религия может стать осевой частью жизни. Но только религия в самом высоком смысле, потому что в религии надо внутренне трудиться. Это не просто так – утром пришел, молитву отбил и после этого пошел заниматься своими делами, часто преступными… Я, правда, не верил ни в перестройку, ни в последующие реформы…

Был один случай, после которого я понял, что ничего не будет. Незначительный эпизод, который, однако, оказался для меня очень важным. Были выборы Андрея Дмитриевича Сахарова, представление его кандидатуры в Верховный Совет. Академия тогда отказалась выдвигать Сахарова в Верховный Совет.
Я не помню, что там происходило, может быть, совесть заела, может быть, что-то такое по поговорке «знает кошка, чье мясо съела», но результат был тот, что Элем Климов (а он тогда был первым секретарем) сказал: «В таком случае мы имеем право его сами выдвинуть». И в Союзе кино в Белом зале было собрание. А я был секретарем Союза, правда, вскоре я ушел, потому что понял, что это абсолютно не мое дело… Так вот, на это собрание я пришел со своей коллегой с киностудии «Союзмультфильм», народу было огромное количество: весь зал был забит, и еще на улице тысячи три человек, все шумели…
На сцене был длинный стол, в центре сидел Сахаров, что-то писал, а вокруг него – в буквальном смысле его ученики, потому что они учились у него, он преподавал. В общем, такая тайная вечеря, только общественная. Они ходили, бумаги какие-то передавали. Я, конечно, смотрел на всю эту композицию, как на некий мультипликационный момент.
А в это время народ витийствовал, подходили к трибуне, выступали, говорили пламенные речи. И вот вышла одна женщина. Я помню, в крепдешиновом платье образца 52-го года, с манжетами, с орденом Ленина – она была медсестрой во время войны, то есть всего хлебнула. И она стала говорить о своем наболевшем: что она прошла войну, что там она вступила в партию – то есть человек говорил человеческие слова – о том, что она сейчас не разбирается в том, что происходит. Ее засвистели.
Я сказал коллеге, что эта женщина сейчас упадет в обморок, у нее будет плохо с сердцем, потому что она выглядела, как ребенок, который на грани истерики. Знаете, когда дети начинают плакать, они сначала делают глубокий вздох, у них открыт рот – и тишина, крика еще нет… Это полосует по сердцу невероятно. Вот та женщина была в таком состоянии – как будто она бежала и вдруг остановилась перед пропастью и машет руками, чтобы туда не упасть. Она сошла с трибуны. А я не смог к ней подойти, там все было занято, народу битком… Я тогда повернулся и сказал коллеге: «Наташа, ничего не будет, по очень простой причине – опять человека забыли».
Понимаете? За лозунгами опять забыли человека. А лозунги могут быть хорошими – в конце концов, социализм – не самое худшее, что было придумано, и где мы могли бы жить, только с некоторыми поправками на идеологию и прочее. И я тогда сказал: «Ничего не будет, все!» Так оно и случилось.

– Да, потому что, во-первых, я считаю, что Патриарх, иерархи, священники должны быть самыми бесстрашными людьми. Они вообще не должны ничего бояться, тем более что они смотрят на своего Учителя, чьей проповеди уже две тысячи лет. В этом смысле они должны нести в себе достоинство, а не возможность политических маневров, как это происходило.
Я читал интервью Патриарха Алексия II, которые были при жизни, и все думал, почему он не говорит главные слова? Но как только он умер, на свет вдруг появились интервью, которые он, вполне возможно, не хотел, чтобы печатали. Там было интервью, где он говорил об осевых вещах – и об экономике, и о богатых.

– Патриарх Алексий вообще был потрясающей фигурой, и очень жаль, что мало людей знают масштаб этой личности.
– Я тоже немного знаю о нем, но у меня невольно возникали вопросы, почему он не говорит о самых важных проблемах в обществе. Ведь это правило – «не стяжай для собственного благополучия» – это одна из важнейших вещей. Попытайся увидеть в другом человеке – человека, а не предмет своей наживы. А наше общество именно в это состояние и перешло: другой человек рассматривается как практическая ступень к следующей возможности получить еще один «навар», а за ним – еще один. Меня изумляет, когда по телевизору как о некоем достижении сообщают, что в Москве появился сотый миллиардер, а не о том, что построена школа или увеличили зарплаты людям…

– И я его обожаю. Когда я читал его интервью, то я подумал: «Боже мой, это же просто мои слова». А знаете, кто его любимый художник? – Левитан. Он мне сам рассказал, что у них была выставка Третьяковской галереи, и там он увидел пейзажи Левитана. И понял, что просто это его любимый художник.
В их музее мультипликации есть комната его родителей и комната его детства, он туда все перенес – там есть на что посмотреть. Там, среди других открыток, я вдруг увидел открытку русских живописцев – Степанова, Виноградова, Архипова. Он даже сам писал. Он по-настоящему любит русское искусство.
Миядзаки ведь имеет сумасшедший успех, он имеет все премии мира, но вы не представляете, какой горечью заполнен этот человек. Когда он говорит о жизни сегодняшней, он говорит: «Что за дети? Они даже на дерево не могут залезть, они даже костер не могут развести. Что за дети?» Когда он у себя делал этот музей, он внутри, во дворе поставил старую колонку – водокачку, которая у них была в деревне. Где теперь все дети болтаются? У этой колонки стоят, брызгают друг на друга, и просто счастливы. И тут же рядом он поставил сарай с дровами. Отношение к бытию, к жизни у него удивительное.

– Какой у вас его любимый фильм?
– А у меня нет его любимых фильмов. Он не относится к числу тех, кого я назвал раньше. Но он сам мной любим. Мне нравится его метод жизни, путь жизни.
– А «Унесенные призраками» разве не шедевр?
– Я сразу в него «вцепился» по поводу этого фильма, говорю: «Где девочку взял?» Он говорит: «Это племянница моя».
Вообще, Миядзаки потрясающий. Я не говорю про мастерство – он потрясающий по внутренней сути. Он, например, у себя в музее устроил выставку, которую назвал «Три медведя» Толстого с иллюстрациями Юрия Васнецова. Все это сделано в натуральную величину. У него стоит большой медведь, его супруга – поменьше и Мишутка – маленький. Он сделал три комнаты, все по иллюстрациям Юрия Васнецова, которые он знал.
А потом меня просили, чтобы я сделал аудиозапись этой сказки, и обещали заплатить гонорар. Я записал прямо у себя здесь – благо у меня есть очень хороший магнитофон, интонационно все сыграл. А потом мне заплатили гонорар впятеро больше того, который был обещан, и рассказали, что Миядзаки сидел, слушал и хохотал, потому что сказку он хорошо знает.
А еще он там построил на свои деньги детский сад, и на крыше, по коньку идут наш мишка, Михаил Потапович с супругой Настасьей Филипповной. Вот его форма бытия. Человек совсем по другим формулам живет – к сожалению, об этом мало кто знает.

– Еще есть кто-то из мультипликаторов, кого бы вы назвали своим другом, единомышленником?
– Да, есть. Его уже нет в живых, он недавно умер, ему было лет 90. Бржетислав Пояр – это чешский режиссер, изумительный. Из наших, конечно, Хитрук для меня остается абсолютным явлением. Мы с ним очень дружили, действительно дружили, несмотря на разницу лет.
– Хитрук, по-моему, создал шедевр на все века. Винни-Пух невероятно гениальная вещь!
– Он сам – шедевр. Он сам был шедевром. Мне тут его сын дал почитать его дневники – это сплошной стон: «У меня это не получается, у меня это не получилось, я это не могу, не знаю, получится ли». Постоянно вопросы, вопросы, вопросы к себе. В этом смысле, когда я где-нибудь выступаю, разговариваю с молодыми ребятами, я говорю им: «Ну что у вас за словарь? Самодостаточность, самовыражение – нет таких понятий. Это фальшивка. Вы хотя бы почитайте сонеты Микеланджело, нужно вам мозги прочистить». Вот у него нигде нет ни малейшей корпускулы самолюбования. Есть самоотдача, самоотречение – это да. А самовыражение – это фальшиво по форме и абсолютно безграмотно по эстетике, это не имеет никакого отношения к бытию искусства.
– Вы видели «Шинель» с Бастером Китоном?
– С Бастером Китоном? Странная история, «Шинель» была у француза Марселя Марсо, но с Бастером Китоном я не видел.
– Фантастическая вещь! Я недавно обнаружил этот очень редкий фильм. Был такой актер, режиссер и продюссер Дуглас Фэрбенкс-младший. В 1953 году он сделал цикл короткометражек, в которые приглашал великих и своих любимых актеров. Бастеру Китону досталась «Шинель» и роль Акакия Акакиевича, и, кажется, это единственная драматическая роль в кино. Фильм 1954 года, называется «The Awakening». Правда, создатели хулиганство устроили – они соединили Гоголя с Оруэллом. Фильм идет минут 20, и он просто потрясающий. Хотя Оруэлла я бы оттуда выкинул. Я пришлю его вам.
«Неужели опять начнется этот кошмар?»
― Вы религиозный человек?
― Вообще, я человек не религиозный – в строгом смысле. Религиозный человек (в любой конфессии) – это тот, кто утром встает в молитвой, вечером ложится с молитвой. Это очень важная часть бытия. У меня совсем другие взаимоотношения, честно. Потому что вечером я ложусь с ощущением: «Ну вот, день пропал зря. Что же у меня произошло за день?» Утром я встаю и говорю: «Неужели опять начнется этот кошмар?» А раньше, когда у меня была нормальная свобода работы, я ложился спать с ощущением: «Боже мой, зачем нужна эта ночь, она меня отрывает от работы», а просыпался с мыслью: «Боже мой, как хорошо, наступает день, я сейчас бегу на работу, я знаю, что у меня там лежит Акакий Акакиевич или какой-то другой персонаж, тоскует. Я сейчас прибегу, включу свет, закрою павильон и начну работать». Два разных отношения к жизни, понимаете?
― Может быть, эти два полярных отношения должны каким-то образом соединяться?
― Может и так. Ведь если у тебя есть только сплошной поток радости бытия, и ты забываешь о трагичности бытия, то ты чего-то каждый день лишаешься, что-то от себя отрезаешь. Жизнь вообще определяется отношением к смерти и к встречам с возможными драматическими обстоятельствами. Действительно, и драматизм бытия, и радость должны идти вместе, потому что нельзя уйти от переживаний за своих близких, за своих внуков. Мои внуки пошли учиться в Абрамцевское училище, и я каждый день беспокоюсь, что у них и как. Я не хочу их тревожить слишком часто, но, когда звоню сыну, всегда спрашиваю про ребят – как они устроились, есть ли у них друзья, живут ли они в пространстве людей, близких им по духу? Что они видят, что они читают? Для меня это все очень важно.
Естественно, иногда ты просто цепенеешь от этих переживаний, и у тебя пропадает энергия работы, страсть, переживание за нее. Потому что на нас посланы и болезни, и смерти. Никто и никуда от этого не уйдет. У меня такое бытие.

― Как получилось, что ваш сын стал иконописцем? Что повлияло на это решение?
― Во-первых, он встретился и подружился с религиозными людьми. Но мне кажется, более важный момент случился еще раньше, потому что у нас с Франческой огромное количество книг по искусству, и все книги были в их распоряжении. Я говорю: «Боря, возьми, посмотри», – и дал ему Дионисия, еще старое издание, оно тогда мне казалось верхом совершенства и красоты. Он, помню, там случайно порвал иллюстрацию и переживал из-за этого, а я понимал, что важно то, что в него войдет при просмотре этих иллюстраций, а все материальное – это преходящее, все это может разбиться, сломаться, исчезнуть.
Вообще, моя любимая цитата, которую я употребляю по отношению к сыну: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Евангелие от Иоанна 12:24). Для меня это и формула кинематографа, потому что там то же самое: если каждый существует абсолютно сам по себе, соединения не происходит, не происходит гармонии, и в результате не рождается художественного явления.
Еще одна из моих любимых фраз, которую я часто повторяю, а сейчас в связи с «Шинелью» поставил эпиграфом: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Евангелие от Матфея 6:19-21) Вот эта фраза: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» сегодня должна звучать над страной, как набат.

«Над любым эпизодом есть нечто, что превышает его»
― Это к вопросу о патриотизме.
― Да, это о том же. За кого я? Кого я должен защищать? Этих людей, которые у меня все отобрали? Это мои деньги, потому что это мои деньги для кино, не для меня. Для меня лично достаточно того, о чем писал Маяковский: «И кроме свежевымытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо». Нам с Франческой немного надо – и ей, и мне. Ей, конечно, нужно больше, она все-таки женщина и должна хорошо выглядеть. А я могу выглядеть вообще кошмарно – при том, что у меня есть вкус для того, чтобы при возможности одеться так, что будет завидовать сам Пьер Карден.
Но эти евангельские фразы для меня начинают смыкаться в золотое кольцо, по ним начинает течь действительно золотая энергия. Вот это для меня часть бытия, которая, если говорить всерьез, помогает мне жить. Я чувствую что-то надмирное, что вливает в меня силы, и тогда моя жизнь становится частью целого. И в этом смысле я, наверное, религиозный человек. Потому что если ты рассматриваешь свою жизнь как целое, как единственное целое, не соотнося ее с общим бытием, ты остаешься в полном одиночестве, ты остаешься один, как то зерно, и ничего из этого не получается. В этом смысле, я должен вам сказать – да, я религиозен.

― Вернемся к вашему сыну, к его пути и к тому, как вы на него повлияли.
― Если вспомнить Борин путь – он смотрел книги, мы ходили с ним по музеям. Потом я так же стал ходить со своей внучкой, дочкой моей дочки, Яночкой, и ее так же приучать к пониманию художественного пространства. Я ей не просто показывал Виктора Васнецова «Трех богатырей», но я ее приучал к самому бытию внутри искусства. Если я показывал Рокотова, портрет Струйской, то мы долго очень стояли у этого портрета, буквально изучая его. Я ей показываю и говорю: «Яна, посмотри, как глаз вписан туда, посмотри, как рот. Посмотри, какая тональность лица». Я говорю: «Кожа светится?» Она говорит: «Светится». Говорю: «А теперь поднеси ручку к портрету», – и вдруг рядом с натуральной рукой она увидела, что, оказывается, это не тот цвет, это совсем другой, там лицо зеленоватое даже. И она на это с удивлением смотрит. Я говорю: «Вот это натуральность. Художник, который внутренне не озарен, не мыслит дальше физики, он и напишет только физику. А великий художник напишет этот портрет, потому что он прозревает этот портрет в глубину, до которой нам не добраться. И даже ему самому не добраться, потому что творчество – это до такой степени таинственная вещь, что он даже не знает, что сделал в этот момент открытие».
Как, допустим, Репин, я считаю, совершил невероятное открытие, когда он написал портрет Мусоргского – это один из великих портретов вообще, в мировой живописи. Я написал в своей книге о музыкальности этого портрета. Я думаю, что Репин, может быть, даже сам не осознавал, какой великий портрет он создал. Полагаю, что на него воздействие модели было невероятным. Хотя портрет был написан чуть ли не за две недели до смерти Мусоргского, Репин написал великое произведение. Вот так сквозь одно прозреваешь другое. Если ты работаешь над каким-то незначительным эпизодом, ты должен понять, что над этим эпизодом есть нечто, что превышает его.
Для меня невозможно, чтобы я не видел что-то, еще более высокое: так, если я работаю над «Шинелью», я начинаю думать про Иова. Если бы я стал делать произведение про Иова, то я думал бы уже о совсем высоком и абсолютно недостижимом, потому что, чем бы ты ни занимался, ты должен понимать – это ступень по отношению к чему-то более высокому. Тогда творчество для тебя становится не просто выполнением каких-то физических действий, воплощением какой-то физики. Там уже появляется то, что потом, может быть, назовут духовностью и как-то еще…

― Потрясающие слова. У меня есть такая идея, что сотворенность человека «по образу и подобию Божьему» – это как раз о том главном, что роднит человека с Богом: только человек и Творец могут создавать новые миры. Когда мы читаем Достоевского, мы полностью погружаемся в созданную им историю, даже забываем, что это вымысел. Мы начинаем спорить с его персонажами, ставим себя в их положение, пытаемся понять, как бы мы поступили. То есть человек создал другой мир, и другой человек может в этот мир войти, погрузиться и пребывать там. Величайший дар – творчество, именно в момент творчества, в момент созидания человек становится подобным Богу.
― Совершенно верно. Но это же относится и к дворнику, о котором мы говорили ранее, потому что он и возвышен в момент своего творчества. Причем он может этого не осознавать – и даже лучше, если не осознает – потому что тогда это уже входит в инстинкт, и хорошо сделанная работа становится неотъемлемой частью бытия человека.
«Нельзя поить ребенка ужасом, нужен выдох»
― А можно ли считать искусство само по себе тождественным Богу или нет?
― Нет, тождественным считать нельзя, но чувствовать себя неким демиургом в этом пространстве – да. Когда только начинаешь работать, это чистый лист. Мультипликация в этом смысле – чудовищное искусство, потому что ты должен все собрать из небытия и заполнить этот лист, он тебе дан, и ты должен его заполнить до предела. И вот я все время думаю: «Боже, где же эта первая точка?» Я все время ищу, где начало этого бытия, этого нового фильма. Вы знаете, а начала нет. Оно уже есть где-то, но здесь его еще нет, потому что оно только собирается, начинает компоноваться: там точка, там, там… Я еще даже не знаю, во что они соединятся – вдруг возникает этот эпизод или эта сценка, или этот жест. И потом, когда вдруг это все начинает сползаться и соединяться, и вдруг начинает образовываться клеточка мира, ты начинаешь понимать, что, кажется, ты нашел и ту начальную точку.
Но если в этот момент ты удовлетворяешься тем, что пользуешься жизненным опытом: «А, я опять нашел, как и в прошлый раз», – это твоя катастрофа, потому что ты оказываешься в ситуации апатии, которая может лишить тебя нужной энергии. Ты все время должен находиться в ощущении, что это все может разрушиться, обвалиться.
Знаете, когда я думаю о человеческом организме, я изумляюсь: «Боже мой, миллионы соударений в одном человеческом жесте. Если человек берет в руки молоток, то в этом действии участвует весь его организм, все его бытие». И здесь происходит та же самая история – начинает образовываться некий мир, и вдруг в какой-то момент этот мир начинает, сам начинает предлагать тебе решения. Ты даже не понимаешь, за счет чего это происходит, но можешь почувствовать, что есть какая-то необыкновенная энергия, которая вдруг становится к тебе благодарной, и дает тебе то и это. Я говорю Франческе: «Франик, каким же я вчера был идиотом, как я не мог придумать эту простую сцену? Вот же она!» Вот как это происходит. Но всему этому предшествует абсолютно невозможная, невероятно напряженная работа.
― Слушайте, а может быть, вы переросли «Шинель»?
― Нет, если я что-то и перерос, то не «Шинель». Я могу перерасти сам род занятий искусством.
― Мне кажется, вы не заканчиваете этот мультфильм сознательно.
― Нет, это неправда. Если бы я вел дневник, я прямо по дневнику бы вам сказал. Я в течение семи лет сделал 60 минут мультипликации – это очень большая скорость. Если еще учесть, что Франческа – единственный художник, и нет никого из декораторов, практически мы с ней вдвоем. Еще кинооператор – вот, практически три человека делают кино. Я работаю с огромной скоростью, с такой скоростью не работает у нас в студии никто. Как мультипликатор я мог в месяц снять 2,5 минуты, и это очень много.
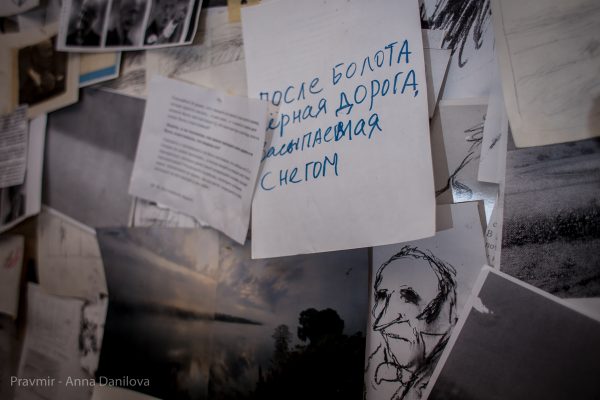
― Но это были совершенно другие работы, это другая история.
― Но все равно у меня каждая работа была создана на пути к чуду. Допустим, «Ёжик в тумане»: худсовет я начал словами: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». Понимаете? И после этого ко мне подошел зам. главного редактора, Аркадий Снесарев, который до этого очень протестовал против этого мультфильма, и сказал: «Я кажется понял о чем ты делаешь кино». Хотя, с точки зрения экшн, энергии, действия, там ничего нет, мультфильм довольно спокойный. Там есть только один эпизод, где развивается бешеный темп, когда Ёжик в ужасе теряется в этом пространстве и понимает, что конец всему, и ему тоже конец. Но важен был момент перехода от одного к другому, потому что нельзя поить ребенка ужасом. Он может это пережить, но надо, чтобы потом все-таки произошел выдох. Так что, это хотя и другие фильмы, но они все равно об одном и том же.
«Вы сделали страшный фильм, дети не могут его смотреть»
Мы как-то сидели с Франческой, и я предложил, если обстоятельства позволят, сделать маленькие эпизоды, которые не вошли в «Сказку сказок»». Мы могли бы сделать фильм «Ноябрьский вечер» – маленький, буквально 1,5-минутный эпизодик, где идет такая марьино-рощевская шпана. Они все в треухах, в своих бушлатах, такие матросики, и они идут сквозь сумрак и осенние огни, и мы видим только силуэты, и они лениво подбрасывают мертвого голубя ногой – был такой эпизод. А следующий эпизод, который тоже не был снят – это похороны птицы: дети хоронят птичку. И следующий эпизод – совсем другое: торжественный детский траурный марш. Потому что это всегда было для детей очень торжественно. Это была часть бытия – жизнь, которую они постигали таким способом. Я считаю, что способ совсем не худший. Они встречались со смертью, они еще не знали, что это такое. Как говорил один из замечательных теоретиков в педагогике Сухомлинский, детям необходимо говорить о смерти, только с огромным тактом. В этом смысле мне многие пеняли по поводу сказки «Ёжик в тумане»: «Вы сделали страшный фильм, дети не могут его смотреть».
С другой стороны, я знаю, что психиатры пользовались моим мультфильмом, как научным пособием. Они говорили, что там идеально построена вся система взаимоотношения с миром, когда живое существо доходит до состояния полной прострации и находит выход из этого состояния, а после попадает в ситуацию, когда понимает, что с жизнью закончены все расчеты…
Так что я не перерос мультипликацию. Но бытие дает гораздо больше, чем искусство; искусство является лишь частью бытия. Это, как мне кажется, нужно для себя понять и не считать, что ты сейчас объявишь человечеству о новых мыслях, создашь и расскажешь нечто такое, с чем оно не сталкивалось. Ничего не расскажешь, со всем человечество уже сталкивалось.

― Упомянутые вами короткие эпизоды, которые не вошли в «Сказку сказок» – вы действительно планируете их выпустить?
― Была такая идея. Ведь сохранилось много эскизов – не только к «Сказке сказок». Был, например, такой эскиз «Стакан вина» – там недопитый стакан вина и пьяная бабочка. А еще низкое солнце и свет по столу – а стол такой, изрезанный ножами – кухонный стол в коммуналке, который знает на себе следы подсолнечного масла, прилипшей клеенки и так далее… Кто сегодня смотрит внимательно на время, которое собирается в таких средах? А для меня это очень важно. В сегодняшней архитектуре, в сегодняшнем бытии не собирается время, оно соскальзывает, как с полировки, там не за что зацепиться. Я где-то сказал: «И пришел я в квартиру, где даже палец не занозишь». А это должно быть. Здесь такой стол, я знаю, как он пахнет – луковичной чешуей и мамиными котлетами. Это бытие, это не просто стол для меня – это средоточие жизни. Эта столешница – художественное произведение, отпечатанное самой жизнью. И там должен стоять недопитый стакан под этим низким солнцем, и бабочка должна сесть на край стакана, и хоботком вытянуть капельку вина. Она должна опьянеть и пойти по краю стакана, соскальзывая лапками, а потом над ней появится другая, и она улетает в это сияние, в этот свет. То есть рядом с такими трагическими нотами – нечто солнечное.
«Если из дома не кричат: «Дети, домой!» — зачем он нужен?»
― Сделайте этот фильм. Это шедевр. Он будет вершиной вашей жизни. К каким эпизодам еще сохранились эскизы?
― Например, эпизод, который связан с моим двором в Марьиной роще. Дело в том, что для меня мой двор – это была моя страна. Вообще, без Марьиной рощи я был бы никто. Все люди на этом эскизе имеют конкретных прототипов. (показывает) Это мои тети, дяди. Парикмахерская, куда я ходил. Это я. Сапожник, который работал у нас во дворе; тогда вообще на улице было много сапожников… Помните эту форму молотка сапожника? Видите ли, мельчайшие частички бытия для меня вырастают в саму сущность жизни. Наш дом, двухэтажный, старый дом, коммуналка сплошная, там и там коридоры, понятно, это объяснять не надо. Но сколько же там было поэзии! Которая потом для меня стала поэзией, а на самом деле это было бытие.

Летний вечер… Что такое субботний летний вечер? Выходной был один, но суббота – было уже какое-то отдохновение для людей. И вот я обожал, когда возвращался откуда-нибудь вечером, сумерки, а в сумерках сидят соседи. Свет из двери нашего коридора падал на улицу, хотя лампочка была слабая, но на контрасте все равно эта полоса света пробивала. И в этой полосе света сидели все соседи – сверху, снизу. Наш двор был – маленькая Одесса, все друг друга знали.
Если вспоминать, что сегодня происходит в архитектуре, то там не происходит самого главного. Когда начинают о ней рассуждать, я говорю: «Ребята, вы все сошли с ума». Если величина дома не соотнесена с криком мамы: «Дети, домой!» – не нужен мне этот дом, потому что это часть бытия, важная часть. Если продолжить об этом нашем дворе, то там были скрип песка под подошвами, стук мяча о землю, когда играют в волейбол или в штандарт – была такая игра – эти шорохи, гудки автомобилей, то есть бытие звуков. Сидит папа, мама, свет идет вкосую и идет тихий, неторопливый разговор. Это части бытия…

Я потом вспоминал об этом неторопливом разговоре, когда мы с Франей жили на даче с моими старшими детьми, а за стеной жила баба Феня – хозяйка, которая нам сдавала часть дома. И они всегда еще с одной бабкой, которая была главой семейства, снимавшего другую часть этого же дома, по вечерам садились пить чай. Им было уже лет по 75 (собственно, мне сейчас тоже 75). Они садились пить чай, и, сидя за стеной, за перегородкой, я обожал слушать их речь, хотя ничего и не слышал. Но это ворожба… Для меня это было посильнее ахматовского голоса, когда она читает стихи – а Ахматова читала стихи, как никто… Они переговаривались, у них голоса бухали, я ничего не мог разобрать, но я слышал звяканье чашек, я видел формулу бытия и чувствовал его величие.
― Вы еще ребенком увидели, прочувствовали и осознали все это? Когда вы начали чувствовать жизнь?
― Да, я сразу чувствовал эти куски жизни. Ведь это все обусловлено достаточно драматичным детством в том смысле, мне никто никогда, почти ежедневно не давал мне забыть, что я еврей. Это другая часть жизни, другая часть бытия.
«Я сразу превращался в «еврейскую морду»
― В Марьиной роще ведь всегда было полным-полно евреев.
― В Марьиной роще, конечно, полно евреев, но в нашем дворе было всего две семьи – наша и в соседнем доме. И получалось так, что мне не давали забыть о моем еврействе, это было на любом уровне – и в школе и во дворе. Мы все были товарищами, все бегали, играли, но если что-то было не так, то я сразу превращался в «еврейскую морду». Единственный мой авторитет, который был безусловен – это когда я брал карандаш и альбомчик и садился рисовать. Я уже забыл, а у многих остались рисуночки, я там детей рисовал. Этим же мой авторитет возрастал в пионерлагерях, потому что я много читал и много рассказывал. Потом, когда читал Шаламова и лагерную литературу, узнал, что там тоже ценился рассказчик…
― Юрий Борисович. У меня не выходят из головы идея коротких фильмов. Я считаю, вам просто необходимо их создать. Это будет вершина вашего творчества, прекрасная завершающая нота! Как знак тишины на могиле Шнитке.
― Завершение бытия, я понимаю. Но это очень трудно. На создание минуты такого эпизода будет уходить гораздо больше времени, чем на создание минуты мультфильма, потому что здесь опять надо конструировать мир. Хотя часть его уже создана, она, безусловно, существует, но мультипликация – это технологическое искусство, а компьютером я не пользуюсь – не хочу, это не для меня инструмент…

― И все же это была бы красивая, просто библейская концовка. Даже озвучивать не нужно было бы эти эпизоды – так и оставить любимый образ молчаливым, вообще без звука.
― Да, тишина – это лучшее. Или достаточно струны в тумане. Но повторюсь – это очень трудно.
― Вы счастливый человек? Как вы сами себя оцениваете?
― По-разному, по-разному. Видите ли, я считаю, что я все равно занимался не тем. Это очень странно звучит, но я всегда хотел заниматься живописью – для меня она была единственной, неповторимой, с ней я бывал один на один. Кино – это искусство, где ты завязан с людьми – пусть и с небольшим их количеством. Мне невероятно повезло, что эти люди – мои близкие и моя жена, это все очень хорошо. Но живопись! Я вспоминаю эти сладостные минуты погружения в нее, когда я знал, что я сделаю. Часто я ходил по выставкам моих ровесников – а у меня много знакомых художников – а потом, придя домой, говорил Франческе: «Я бы так мог и мог бы лучше». Потому что я какие-то вещи вижу, может быть, даже более тонко, более остро.
«Далекое «навсегда» теперь является жизнью и творчеством»
― Все-таки счастье – в чем оно выражается? Что для вас счастье? Есть какое-то определение?
― Счастье – это благополучное завершение чего-то, благополучный исход там, где ты на такое не надеялся. Здесь есть некий парадокс: кинематограф должен все фиксировать, но фиксация эта должна нести на себе черты неопределенности. А неопределенность рождает слоистость, ты видишь этот и следующий слой, и следующий. Когда мы делали Ёжика, мы смотрели Рублевского Спаса – смотрели этот взор, который видит, условно говоря, обратную перспективу. Как у Шекспира: «Ты повернул глаза зрачками в душу». Это очень важный момент, поэтому для меня понятие счастья тоже такое, очень слоистое, в нем неопределенность…
Я Вам прочту один отрывок. Два года назад я получал в Чехии звание Почетного профессора и должен был там выступать. Может быть, это даст ответ на то, что такое счастье:
«Что управляет эстетикой? Если этика овладевает тобой, а вопросы самого искусства подчиняются моральным правилам, то этика неминуемо вырождается в идеологию, принимает свойство силы, и тогда случаются погромы искусства, которые, с точки зрения идеологии, не выражают мир в нужном для идеолога направлении. Что управляет эстетикой? Накопление огромного количество обертонов, которые становятся твоим знанием, твоим художественным языком, твоей способностью к переживанию. Здесь невольный ответ, почему сегодня на этой торжественной церемонии прозвучала мелодия моего детства?»

А там каждый из номинантов, должен предложить музыку, которую он бы хотел услышать на его вручении. Я им предложил, чтобы прозвучала музыка моего детства – еврейская мелодия, очень незамысловатая песенка «Варенички». Поется от лица девушки: «Где мне взять муку, чтобы сделать варенички? Где мне взять соль? Где взять скалку, чтобы раскатать? Где это, где то? Где мне взять парня, которого я бы накормила этими вареничками?»
Мы вчетвером – папа, мама, и мы с братом жили в маленькой 13-метровой комнате большой коммунальной квартиры, но, клянусь, я бы не хотел поменять это мое детство на иное, даже самое комфортное. Как у того же Гамлета: «Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду чувствовать себя повелителем бесконечности».
«Представьте себе комнату, в середине которой под потолком абажур. Мама набрасывает большую скатерть на стол, скатерть взлетает и, надуваясь парусом, медленно, волнами, словно ловя воздушное равновесие, успокаивается, принимая форму стола».
Понимаете, для меня эти вещи, которые внешне кажутся незначительными, производили сильнейшее впечатление.
«Зимой в комнате на веревках досушивалось принесенное с улицы белье, распространяя морозную пряность. Пахнет хлебом, по воскресеньям – маковым пирогом, бубликами. Папа за столом отхлебывает горячий чай, почти кипяток из тонкого стакана в подстаканнике и читает. Без книг я папу не видел».
Папа был наладчиком деревообрабатывающих станков. Он обладал абсолютным слухом, таким, что постоянно поправлял брата – а тот учился играть на скрипке. Папа очень хорошо знал музыку. Это к вопросу о том, что не бог весть какая профессия – наладчик деревообрабатывающих станков, и при этом огромный мир внутри: книги, музыка, умение работать.

― Умение работать – это тоже огромный дар.
― Да! «Брат на скрипке разучивает гаммы, за окном зимняя ночная синева, а в комнате тепло от печки. Я рисую. И кажется, что это навсегда. И то далекое «навсегда» теперь является жизнью, а если повезет, то и творчеством. Комната заполнена упражнениями, музыкой Шуберта, Паганини, Листа.
Но самое острое впечатление оставила случайная грампластинка. Завораживал тяжелый ящик – патефон. Тяжелая пластинка на диске, крупный план иглы, под которой кружится бесконечно струящаяся поляна пластинки. Никелированный звукосниматель мерно покачивается и сквозь шипение пластинки звучит еврейская песенка «Варенички» или синагогальное пение. Звуки одушевляют и возвращают пространство той жизни».

И вот дальше, что такое счастье:
«Та наша комната, та далекая точка в глубине времени представляется мне музыкальным перекрестком, где у каждого своя мелодия. Мы были вместе, каждый жил своей жизнью, но мы были сопричастны друг другу» – вот для меня счастье.
«Быть может, это и есть главный смысл бытия. Суть не в удаче, а в ежедневном интересе к каждой точке жизни, одна из которых может вспыхнуть открывшимся глубоким смыслом простых понятий. Суть в том, чтобы в самых сложных обстоятельствах считать себя виновным и ответственным за деяния, в которых сам не участвуешь. Главное, уметь отличить дурное от животворящего. Как бы мы ни настаивали на словах «о вкусах не спорят», но время объединяет такие понятия правды и прекрасного, что мы можем указать на них пальцем как на обобщенный смысл, и вкус здесь ни причем.
Может быть, прекрасное и есть правда? Главное, не обольщаться приманками, а прокладывать дорогу сквозь хитрости, предлагаемые тебе с добропорядочной улыбкой, и ты, клюнувший на подделку, не заметил, как прошел рядом с подлинным.
Прекрасное не только в колоннах Парфенона, но и в каменной дороге, по которой идешь, сбивая в кровь ноги, но ты чувствуешь всем существом дорогу, и эта дорога к дому. Прекрасно не только прикосновение ладони любимой к твоему лицу, но и подагрические пальцы твоей мамы, и хромая собака, и выцветшая на солнце, и омытая дождями доска и запыленная листва.
Я говорю сейчас и вам, и себе: мы счастливы, потому что мы в творчестве, мы живем в нем, будто продираемся сквозь терновник. Мир заполнен многообразным опытом, и общего ответа нет. И все же, если ты держишь младенца на руках, ты испытываешь восторг, и смысл отрицательного опыта полезен хотя бы тем, что заранее заставляет тебя проникаться пронзительной печалью о судьбе твоего ребенка или друга, или просто близкого тебе. Если ты испытываешь горечь, грусть от предстоящей чьей-то судьбы, и ты уже невольно участвуешь в мысли, что есть нечто, ради чего стоит писать стихи, делать фильмы, сочинять музыку, жить и просто трудиться».
Вот с чем я выступал тогда в Чехии, и вот что для меня определение счастья.
― После этих слов мне захотелось только поцеловать вас в лоб и молча уйти. Давайте на этом закончим наш разговор. Спасибо вам.






